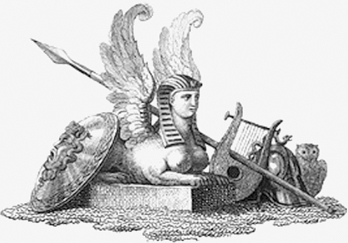Специальный проект IV Конгресса «Глобальное, интернациональное и национальное в науке об искусстве»
От мирового искусства к глобальному искусству. Новая панорама
Ханс Белтинг, 2013
Статья переведена с позволения автора специально для спецпроекта IV Сарабьяновского конгресса.
Недавно изданные книги с заголовками вроде «Мировая история искусства» и «Глобальная история искусства», как кажется, предполагают, что оба упомянутых термина могут использоваться как синонимы. Однако же, на самом деле, за терминами мировое искусство и глобальное искусство стоят совершенно разные вещи, начиная с того самого момента, когда, около двадцати лет назад, понятие глобальное искусство вошло в оборот. Мировое искусство — это старое модернистское понятие, обозначающее искусство других, в силу ли того или же вопреки тому, что оно в основном находится в западных музеях. Этим термином по-прежнему называют искусство всех времён, наследие человечества. Мировое искусство — это, фактически, искусство любого возможного происхождения, исключенное из основной традиции западного искусства и отнесённое, таким образом, в рамках колониального мышления, к сфере ответственности не художественных, а этнографических музеев. Мировое искусство значится в качестве объекта защиты в международных законах об охране памятников и культурного наследия. Название глобальное искусство, с другой стороны, закрепилось за неожиданно возникшим в мировом масштабе новым искусством, не существовавшим в таком виде до 1980-х годов либо, во всяком случае, не привлекшим до тех пор к себе внимания. По определению, глобальное искусство является современным искусством, проникнутым постколониальным духом; в таком качестве оно имеет намерение избавиться от центрально-периферийной схемы, ещё недавно доминирующей безраздельно , а также провозглашает освобождение от исторических привилегий (обзор публикаций по теме см. [1, 60-73]).
Эта статья была написана с целью исследования истории возникновения определения мировое искусство, равно как и аккомпанирующего ему термина глобальное искусство, она призвана проследить изменения в значении данных дефиниций и попытаться показать эти изменения в контексте исконно присущих человечеству идей и понятий о том, что такой искусство. Автор надеется, что ему удастся объяснить, почему терминология играет ключевую роль для понимания скрытых смыслов. Однако же, значения терминов меняются — так, мировое искусство стало значить нечто другое, особенно после появления дефиниции глобальное искусство. Данная статья состоит из четырёх частей, первая из которых посвящена концепту мирового искусства, затем же мы обратимся к глобальному искусству. Парижская выставка 1989 г., о которой мы будем говорить в третьей части, стала знаменательной вехой, так как она отметила момент, когда мировое искусство отделилось от глобального. Четвертая и заключительная часть будет посвящена истории искусства и новым вызовам, встающим перед ней.
1.
Понятие мировое искусство изначально было сформулировано как колониальный концепт, который использовался для коллекционирования искусства «других» как искусства иного рода, искусства, которое также находится в различных музеях, где решающее слово имеют антропологи, а не искусствоведы. Так называемый Атлас Мирового Искусства, изданный Джоном Ониансом в 2004 г., как считается, исправил описанное предвзятое отношение, включив западное искусство в общий обзор, где его единственным отличием стали географические признаки. Однако и по сей день определение мировое искусство имеет стойкие колониальные коннотации. Такое отношение сыграло решающую роль для отделения мирового искусства от западного искусства пропастью, созданной нарративом истории искусства. Сто лет назад Венская школа истории искусства предложила название Weltkunst для того, чтобы расширить сферу компетенции искусствоведения. Именно в этом смысле следует трактовать статью Хайнриха Глюка под названием Hauptwerke der Weltkunst, опубликованную в сборнике памяти Йозефа Стржиговского 1934 г. Основанный в Германии в 1927 г. журнал DieKunstauktion был в 1930 г. переименован в Weltkunst, так как мировое искусство обрело популярность среди коллекционеров. Некоторым людям мировое искусство давало подпитку ностальгических чувств, возникших вследствие разочарования в современном искусстве и жажды возвращения к далёкому прошлому. Я не хочу сказать, что общее исследование художественного процесса в мировом масштабе лишено смысла; всё зависит от того, включает или исключает рассказчик себя самого из своего нарратива. Понятие «мировой истории», в том виде, в котором его ввели в оборот Уильям Макнилл и другие историки послевоенной эпохи, доказало свою жизнеспособность; причём не осталось никаких сомнений, что указанное понятие включает в себя Запад, и что европоцентричный взгляд на «другого» более не является отправной точкой при написании истории [2, 385-395]. В конечном счёте, историки как таковые также сталкиваются с той же самой терминологической проблемой различения мировой истории и глобальной истории — несмотря на очевидную нужду подобного различения в эпоху глобализации. Менее проблематична ситуация с «мировой литературой» как областью сравнительных исследований, и в том смысле, который имел в виду Гёте при написании своих немецких переводов арабских стихов из цикла «Западно-Восточный Диван». Ведь литература отличается от изобразительных искусств своей потребностью в переводе, налагающей определённое бремя и являющейся вызовом. Колониальная торговля и собирание предметов искусства всегда интересовались отдельными предметами или артефактами, которые обыкновенно лишались своей истории и контекста использования, когда оказывались в западных коллекциях. Оглядываясь назад на наследие колониализма, мы видим, что роли читателя и коллекционера в колониальной системе отличались друг от друга. В истории дискурса о мировом искусстве можно выделить подход двух школ, включивших изучение мирового искусства как дисциплины в своё академическое расписание. В первую очередь, следует упомянуть новую Школу изучения мирового искусства при Лейденском университете, начатую как междисциплинарный проект историком искусства Китти Зийльманс и этнографом Винфредом ван Дамме. В Лейдене современное глобальное производство осмысляют через призму колониального прошлого Нидерландов [3]. И, с другой стороны, можно привести пример Центра изобразительных искусств Сейнсбери при Университете Восточной Англии в Норвиче, чей департамент истории искусства в 1992 г. был переименован в «департамент изучения мирового искусства». В данном случае, коллекция искусств Африки и Океании Центра Сейнсбери была передана в качестве дара в Университет Восточной Англии — Джон Онианс в своём Атласе Мирового Искусства уделил достаточное внимание этому собранию [4, 124-138], [5]. Журнал «World Art», публикуемый Центром изобразительных искусств Сейнсбери с марта 2011 года, в редакционной статье обращается к «глобальной перемене в осмыслении того, чем же является искусство». «Мировое искусство, — продолжает автор, — звучит множеством различных голосов, оно концентрируется на творческих способностях человека […]. Приняв во внимание историю древних культур различных частей света, мы должны прийти к более широкому пониманию мировой культуры».
Коллекцию Сейнсбери, однако же, собирали, руководствуясь в качестве эстетического ориентира кантианским принципом оценочного суждения. Искусство в рамках этих воззрений мыслилось как универсальная и неподверженная влиянию времени форма, свободная от какого бы то ни было содержания и культурного контекста. Таким образом, так называемое, мировое искусство приводилось в пример как доказательство того, что искусство всегда было современным и являлось в своей сущности лишь формой, не зависимой от условий породившей его культуры. Такая точка зрения служит сразу двум целям — она оправдывает современное искусство в той же степени, как и мировое. Семейство Сейнсбери ценило «примитивное» искусство за те же самые черты, что и искусство современное, собирая первое наряду со вторым. Заявление коллекционера сэра Роберта Сейнсбери, которое цитируется в официальном тексте о целях семейного музея, гласящее, что собрание музея «охватывает 5000 лет истории человеческого творчества», было встречено общественностью преимущественно с одобрением. Эта схема, однако же, работает, только если аккуратно разделить пространство на две части: с одной стороны поместить анонимные объекты, а с другой — произведения современных западных, предпочтительно британских, художников, например Френсиса Бэкона, чьи работы в 1950-е гг. также собирало семейство Сейнсбери. Между тем, Центр Сейнсбери признаёт, что между изготовителем традиционного племенного искусства, в том виде, в котором он предстал перед колонизаторами, и художником из тех же регионов нынешней, постколониальной эпохи, лежит пропасть — ведь последний родился уже в обстановке разнообразия и равенства «современных миров», если мы воспользуемся удачным определением Марка Оже, и не может быть более объектом этнографического интереса [6, 89]. Сегодня такой художник или художница могут работать в соседнем с вами доме, где бы вы не жили. Например, департамент этнографии Британского музея, обладающий богатыми фондами, происходящими также из собраний семьи Сейнсбери, инициировал программу по коллекционированию предметов современного искусства в тесном сотрудничестве с современными художниками, преимущественно африканского происхождения, как в 2007 г. гласила экспликация, доступная посетителям музея [7,56, рис. 8]. Однако же художники из бывших колониальных владений западных стран раскритиковали описанный выше музейный подход с постколониальной точки зрения, поскольку он не оставляет места для представления памяти о страданиях их предков. В результате западные кураторы этнографических музеев сталкиваются с кризисной ситуацией, когда все принципы подбора коллекций и организации выставок оказываются под вопросом. Салли Прайс превосходно показывает создавшееся положение в своей книге «Примитивное искусство в цивилизованных метах», в которой она язвительно и детально разбирает политику приобретения культурных и религиозных артефактов иных культур в Европе и Северной Америке [8].
Мировое искусство — вид эстетического восприятия объектов как чистой «формы», в качестве свидетельства универсального характера творчества всякого индивидуума — было лучше всего описано в книге Андре Мальро Le musée imaginaire, опубликованной впервые в 1947 г., работе, основанной на идее универсальной эстетики, превозмогающей культурные и исторические различия [9, 153]. Автор, человек с богатым личным опытом французского колониализма в Азии, по собственному заявлению, смог преодолеть традиционный раскол между (западным) искусством и (этническим) мировым искусством, который он называет устаревшим колониальным предрассудком. Мальро использовал при описании искусства неевропейских культур западный концепт формализма, принятый в его время, без оглядки на детали хронологии и географии, например, сравнивал западное средневековое искусство и буддийскую скульптуру или искусство Гандхары. Как ни странно, он при этом почитал музей, пусть даже и мечтал об идеальном музее без стен, музее в воображении, или же, точнее сказать, в книге.
Добавим, что концепт мирового искусства важен для политики идентичности в культурах, которые прежде были лишены своей доли в отборе и коллекционировании колониальной эпохи. Их история, как доколониального, так и колониального периода, была воплощена объектами культурного наследия и вплетена в их самую ткань, но, обыкновенно, эта связь терялась с момента поступления упомянутых объектов в западный музей. Надо понимать, что директор Британского музея Нейл Макгрегор пошёл на разрыв с принятой парадигмой, когда он в 1996 г. сделал на радио BBC ставшую знаменитой серию передач «История мира в 100 предметах». Макгрегор вернул предметам их исторический контекст, а также включил в свой список примеры синхронных западных вещей, некоторые из которых имели связь с колониализмом. Переход от выставочного зала к формату книги также дал возможность говорить об артефактах массовой культуры современности.
Ныне мировое искусство часто оказывается в зоне особого и довольно неблагожелательного внимания из-за постоянно давящих на него требований реституции со стороны бывших колоний. Музеи западных метрополий, которые зачастую подвергаются обвинениям в деятельности в качестве аванпостов империализма и колониализма, сегодня вынуждены пересматривать позицию для защиты своих собраний. Британский музей оказался именно в таком положении. Нейл Макгрегор заявил, что его учреждение «не только музей мира, но и музей для мира» [7,33]. В этой логике Макгрегор провёл открытие ставшей сверхпопулярной выставки, включавшей китайскую Терракотовую армию, в 2007 г., на которую посетители валили толпами, таким образом заявляя свои претензии не только на сохранение своего места под солнцем, но и на право продвигать своё понимание мирового искусства. Проходя как-то в то время мимо витрины книжного магазина на Рассел-стрит, автор случайно столкнулся с хорошим примером актуальности темы данной статьи. Там были выставлены две книги по мировому искусству и одна — по глобальному, в то время как в действительности все три эти книги, стоящие рядком в одной витрине, были посвящены искусству Китая [7, 43, рис. 3]. В витрине магазина напротив можно было видеть каталог выставки в Британском музее, рядом с которым стояла книга, судя по названию, посвящённая искусству ныне живущих китайских художников, и такое соседство сложно было себе вообразить каких-то двадцать лет назад. Отношения между мировым искусством и современным искусством, то есть базовым каноном западного искусства, тесно связаны с понятием так называемого примитивизма, термина, употреблённого Робертом Голдуотером применительно к определённому течению современного ему авангарда в его книге 1938 г. «Примитивизм в современной живописи», которая была опубликована, таким образом, через три года после знаковой выставки в нью-йоркском Музее современного искусства под названием «Искусство африканских негров», открывшейся в 1935 г. Примитивизм, одна из главных ипостасей модернизма, в последний раз был представлен (хотя уже и выглядя анахронично), на выставке в Музее современного искусства Уильяма Рубина в 1984 г., когда этот концепт практически уже изжил себя — как следствие, отзывы о выставке практически единодушно критиковали этноцентрическую предвзятость её идей. Подзаголовок выставки «Близость племенного и современного искусства» представлял собой попытку объяснить и оправдать гегемоническую аппроприацию предметов племенного искусства современными художниками, которые заимствовали для своих работ формы «примитивного искусства», превращая их этим самым в элементы современного искусства. На самом же деле, так называемая близость декларировалась доказательством универсальной и вечной ценности форм модернистского канона. Однако в своей статье об этой выставке Джеймс Клиффорд отметил, что следует «ставить вопрос о границах искусства и мира искусства», а также возразил против традиционного разделения между модернистским искусством и традиционными ремёслами, постулированного в колониальном дискурсе [10, 213].
Спустя несколько лет, в 1988 г., Сьюзен Фогель открыла в Центре африканского искусства в Нью-Йорке проект Искусство/Артефакт, который стал попыткой переосмыслить проблематику упомянутого проекта 1935 г. Дискуссии о понятиях искусства и артефакта к тому времени продолжались уже долгий срок и внесли раскол в практику выставочной деятельности этнографических музеев. Однако теперь споры приняли новый поворот. Случилось так, что западный концепт искусства потерял в современной практике всякую определённость, и вопрос о сущности искусства повис в воздухе. Организованный в рамках выставки 1988 г. симпозиум задался вопросом «Что делает что-либо искусством?». Томас Макэвелли, один из участников симпозиума, заявил, что «ныне границы того, что считается искусством, настолько размыты, что уже невозможно более даже рассуждать на эту тему», кроме того, по его мнению, так называемое примитивное искусство «остаётся единственным возможным контекстом, в рамках которого ещё возможен разговор на тему, что же такое искусство». В общем, он предлагал применить «антропологию в качестве культурной критики, не втискивая объекты иных культур в привычные нам категории, но позволяя этим объектам побуждать нас задавать вопросы о нашей культуре». Макэвелли говорит в заключение: «то, что мы называем нечто искусством, говорит только, что оно является искусством для нас, но это не раскрывает нам значения данной вещи самой по себе либо для других людей» [11, 164-165]. В своей статье, написанной для организованной Сьюзен Фогель выставки, Артур Данто не только бросил вызов модернистскому постулату об универсальном искусстве, но и поставил вопрос о так называемом примитивизме, в сущности, с ног на голову, заявив: «на свете нет более совершенного искусства, чем это искусство» [12, 18]. Другими словами, понятие «искусство» потеряло в повестке модернистов всякую определённость и не могло быть более ни применено к некоему этнографическому объекту, ни обращено против него. Вместе с тем, около 1989 г. споры стали вращаться вокруг вопроса, как следует воспринимать положение вещей, при котором современное международное искусство потеряло географические детерминативы или основную домашнюю территорию, и превратилось в глобальное искусство, как теперь называли мировое искусство. Прежний дуализм искусства и артефакта теперь остался в прошлом, а изготовление предметов современного искусства в качестве профессионального занятия стало общей практикой, на которую Запад более не мог предъявлять исключительного права.
2.
Первый шаг в указанном направлении был сделан проведением Гаванской биеннале, основанной в 1984 г. и прошедшей на двух площадках в 1986 и 1989 г. Участие в биеннале 1986 г. приняло 690 художников из 57 стран. Как сказал Герардо Москера, эта выставка создала «новое пространство, фактически став гигантским Салоном отверженных» [13, 70-79, 74]. Перенос внимания на Латинскую Америку обозначил критическую реакцию на искусство мейнстрима, хотя упоминание «искусства третьего мира» появилось в официальном заголовке выставки только в 1989 г. Две гаванских биеннале делали упор на инаковость и провозглашали альтернативный интернационализм, свободный от диктата евроцентризма. Ещё в 1987 г. Рашид Араин основал журнал Третий Текст, ставший критическим форумом для «взгляда Третьего Мира на изобразительное искусство». Концепт «искусства Третьего Мира» вышел из употребления с концом Холодной войны, однако можно сказать, что он сыграл свою временную роль — до оформления понятия глобального искусства [1, 41-48]. Третья Гаванская биеннале 1989 г. сочетала высокое искусство с массовым искусством, чтобы подорвать западную систему иерархий и настоять на важности отличных от предлагаемых нарративами истории искусства местных художественных традиций [14,207].
Выставка 1984 г. в нью-йоркском Музее современного искусства была всё ещё колониальным проектом, хотя и прошла уже в постколониальную эпоху. Жан-Юбер Мартен проявил готовность бороться с этой двойственностью, заявив, что нельзя более терпеть подобного расколотого состояния. Его парижская выставка 1989 г. Magiciens de la terre(Волшебники мира) — так окрестили художников-участников во избежание нападок со стороны западной художественной критики — превозносилась как «как первая действительно глобальная выставка современного искусства» (La première exposition reellement mondiale d’artcontemporain), если процитировать Gazette des Arts [1, 66-67, 212-220]. Большие споры и разногласия, которые возникли вокруг этой выставки, появились не только из-за места её проведения — в бывшем сердце западной колониальной политики и европейского модернистского искусства. Не менее важным был факт противопоставления большого числа знаменитых западных художников с равным количеством ранее непризнанных творцов из бывших колоний. Каждый из этих художников удостоился равного внимания: две страницы в каталоге выставки, где приводилось только его или её имя, название работы и место рождения.
Это было смелым поступком — оставить привычные категории современного искусства и мирового искусства, придя к общему миру глобального искусства. Однако Мартена обвинили в продолжении колониальной игры в аутентичность, поскольку он отбирал так называемых «местных» художников в противовес их коллегам с Запада, в то время как уже повсеместно постколониальные художники, работающие с видео и инсталляциями пришли на смену прежним мастерам-ремесленникам. Мартен также пригласил к участию профессиональных художников, например Шери Самбу, который представил на выставке своё творчество автопортретом и биографией: историей о том, как безвестный ремесленник из Африки стал человеком с узнаваемым лицом и успешной карьерой. В конечном счёте, выставка была успешной хотя бы в том смысле, что она показала своих западных и незападных участников как современников с их именами и паспортными данными, пусть это произошло и ненамеренно. Одни из них более не выглядели современными, а другие — этническими художниками в старом колониальном смысле. Несколько лет спустя, в 1995 г., Жан-Юбер Мартен стал директором Музея Искусства Африки и Океании Андре Мальро (основанного в 1962 г.) в Париже. Будучи одним из кураторов первого Йоханнесбургского биеннале, прошедшего под названием Африкус, в том же самом году, Мартен размышлял о том будущем мирового искусства, которое он хотел бы видеть — в виде современной музейной практики [15,49]. Он проводил различие между этнографическими музеями, где экспонаты требуют объяснения, и художественными музеями, где живые художники, в качестве воплощения творческого начала человека, будут воздавать должное «предшественникам и героям искусства». Однако же границы, как он писал, неизбежно станут «всё менее чёткими, и вопрос создания художественного музея […] в котором смогут встретиться художники со всего мира […] и сравнить свои работы с произведениями мастеров прошлого, всё ещё остаётся делом будущего». Как надеялся Мартен, его собственный музей в Париже, «станет именно таким местом», а художники в нём будут делать то, что ранее делали антропологи. В это время Мартен ещё не знал, что этот музей скоро будет объединён с новым музейным комплексом на набережной Бранли, созданным в 2006 г. и первоначально исключившим из своих собраний произведения профессиональных художников из Африки и Океании, чтобы вновь утвердить старый миф о примитивном искусстве, легенду колониальных времён. Андре Мальро основал свой музей как место, где этническое искусство осмысляется как некий эстетический опыт, что было привычно для модернистов его поколения. Тем не менее, подобный колониальный подход был делом прошлого, и, по всеобщему убеждению, проект Мальро более не соответствовал принципам эпохи глобализации [16].
3.
В 1990 г. Томас Макэвелли, один из авторов каталога описанной парижской выставки Magiciensde la terre, написал на неё обзор, озаглавленный «Глобальный вопрос» [11,153]. Он отметил, что, несмотря на всю критику, которая шла и с правых, и с левых политических позиций, выставка ознаменовалась первой попыткой провести подобное мероприятие в действительно постколониальном ключе. Таким же было доминирующее настроение арт-критики в номере журнала Art in America за июль 1989 г., в котором посвящённая выставке статья вышла под названием «Всепланетная выставка». Обложка этого номера журнала содержала фотографию планеты, предоставленную NASA, с подписью «Глобальный вопрос» [1, 64-65]. Это был первый снимок нашей планеты, сделанный из открытого космоса.
Для того, чтобы обосновать легитимность нового идейного направления на художественной сцене, журнал привёл шесть статей, касающихся глобализации, включая тексты художницы Марты Рослер и антрополога Джеймса Клиффорда. Господствовало мнение, укреплённое эйфорическим описанием «маркетингового воображения», которое сделал Теодор Левитт, что потребительская культура и принудительная гомогенизация несут опасность, [17]. Тем не менее, как заключил Крэйг Оуэнс «Возможно, именно в русле этого обучения саморепрезентации — как говорить с другим, а не для другого и не о другом — лежит возможность построения «глобальной» культуры» [18,89]. Из четырнадцати интервью со «странствующими художниками» (как их назвали в том же выпуске журнала), можно было видеть, что пространство глобального искусства находится в стадии формирования.
С приходом глобализации изменилось также настроение историографии. «Новая Глобальная История», как её назвал Брюс Мазлиш, «фокусируется на вопросах глобализации», и интересуется «процессами, которые более очевидны на глобальном, а не на местном, национальном или региональном уровнях» [19]. В конечном счёте, продолжает Мазлиш, «глобализация — это процесс, происходящий сегодня вокруг нас, в то время как мировая история простирается во всех [хронологических] направлениях. Поэтому можно говорить о имеющемся ныне явлении как о глобализации, но едва ли можно назвать его мировизацией». Ситуацию, когда пишется история не прошлого, но история совместной жизни на нашей планете, может считаться довольно парадоксальной.
Глобализация, дорога в один конец, дала художникам, ранее долгое время находившимся в статусе парий с ярлыком «мировое искусство», их место под солнцем. Таким образом, выставку Magiciens de la terre можно определить как интермеццо, во время которого произошла новая сдача карт. С другой стороны, эта выставка знаменовала собой ритуал инициации, rite depassage, уникальное знаковое событие. Такой проект был невозможен ранее, и невозможным он стал и позже, когда глобализация целиком распахнула для искусства новые обширные территории. Отныне оба понятия, и современное, и мировое искусство внезапно стали выглядеть устаревшими. Выставка Magiciens стала вратами в ничейную землю, где мы до сих пор пребываем, ориентируясь с помощью импровизированной терминологии. Она прошла в тот самый момент, когда дебаты о постистории достигли своей высшей точки, а Холодная война с её конфронтацией двух социальных систем, схлопнулась. Теперь казалось, что между-народное искусство, искусство между народами, пусть даже только западными народами, было явлением модерновой эпохи, и это понятие более не охватывает многополюсной карты мира, на которой культуры заняли место прежних наций.
Вместе с открытием выставки Magiciens de la terre в Париже, глобальное искусство вошло на большую сцену. И, тогда как мировое искусство осталось в нише, предназначенной для художественного наследия «других», глобальное искусство, напротив, пересекло эту границу и потребовало для себя признания в качестве современной практики на равноправных основаниях с западным искусством. Так как термин глобальное искусство был ещё не для всех приемлем, в январе 1992 г. журнал Kunstforum International вернулся к термину «Weltkunst», однако связал его с объяснительным определением «Globalkultur». Редактор, Паоло Бьянки, напомнил своим читателям, что изобразительное искусство переживает трансформацию под воздействием нового вида этничности [20, 73]. Этичность представляла собой предмет дискуссий в разговорах о мировом искусстве, но никогда не упоминалась применительно к современному искусству. Теперь же она стала важным фактором в поиске идентичности и индивидуальности даже для тех, кто позиционировал себя как постэтнические художники (например, «художник из Африки», а не «африканский художник») [21, 34]. В результате, кураторы различных биеннале взяли на себя ранее исполнявшуюся этнографами «полевую работу» по продвижению местных художников и созданию новых «арт-регионов» с узнаваемым транснациональным обликом.
Можно назвать ещё ряд примечательных особенностей терминологии 1980-х годов. Незадолго до того, как понятие глобальное искусство получило твёрдое признание, старому термину мировое искусство было придано новое значение — он стал названием новой формирующейся географии художественного процесса. Так, Жан-Луи Прадель выбрал для своей книги название: «Тренды в мировом искусстве, 1983-84», для того чтобы охватить этим заголовком несколько восходящих звёзд международной художественной сцены незападного происхождения. Подобная путаница также имела место в случае седьмой Сиднейской биеннале 1988 г., которая получила название: «Обзор мирового искусства 1940-1988 гг.» [1,60-73]. Следует также отметить, что кураторы выставки в Кёльне семью годами ранее, в 1981 г., посвященной примерно тому же периоду (1939-1981), сочли необходимым специально отметить факт включения американских художников в число представителей течения, которое они назвали послевоенным «западным искусством» (Westkunst). Однако же, ярлык «послевоенное» более не представлял новых границ. Это понятие даже подверглось позднее критике — например, в рамках проведённой Рашидом Араином в 1989 г. в Лондоне выставки «Другая история», где акцент был сделан на иной, малоизвестной истории современного искусства [22]. Каталог сиднейской выставки объясняет, что задачами биеннале 1988 г. было «провести в Австралии выставку современного искусства как местного, так и иностранного происхождения» [23,7], а также «попытаться показать ключевые процессы и события в мировом искусстве с 1940 г. с австралийской точки зрения» [23,9], в противовес привычному взгляду из Парижа или Нью-Йорка с его чёткой дихотомией центра и периферии.
1988-й также ознаменовался двухсотлетней годовщиной начала поселения европейцев в Австралии, памятной датой, вокруг которой в общине австралийских аборигенов разгорелись горячие дискуссии, в том числе, относящиеся к возможности участвовать в Сиднейской биеннале. Для того, чтобы снизить градус противостояния, кураторский комитет выставки заказал у мастеров-аборигенов 200 традиционных расписных местных гробов, созданных членами художественного сообщества Раминджининг, которые должны были символизировать 200 лет угнетения коренных народов континента [1, 127, 167]. Однако в конечном счёте было невозможно укрыть от критического взгляда тот факт, что австралийский раздел выставки был представлен творчеством двадцати шести австралийцев европейского происхождения, среди которых было несколько пионеров современной художественной сцены. Только спустя пять лет коренные австралийцы были допущены до официального вступления в ряды местных современных художников. Среди девяти допущенных аборигенов было три женщины, и произошло это в рамках Азиатско-Тихоокеанской триеннале современного искусства, впервые проведённой в 1993 г. Галереей Квинсленда в Брисбене, ставшей амбициозной попыткой перекроить карту мира искусства [1, 112-113]. К этому времени Австралия решила объявить свою культуру частью большого Азиатско-Тихоокеанского целого. Официальное признание аборигенного искусства современным искусством было возвещено на выставке «Мечтания» («Dreamings») в том же 1988 г., на которой уже не было места европоцентризму, царившему на синхронной Сиднейской биеннале. Так, искусство австралийских аборигенов, в качестве ветви того, что ещё недавно определялось как мировое искусство, вошло в область современного искусства под доброжелательной опекой нового концепта глобального искусства.
4.
Современное состояние глобального художественного процесса, которое мы обсудим в заключительном разделе нашей статьи, ставит перед историком искусства ряд неожиданных вопросов. Способна ли вообще история искусства стать глобальной? Кто напишет историю искусства будущего, будет ли это обязательно историей искусства в общепринятом ныне смысле, с сохранением привычного нам значения понятий не только «искусство», но и «история»? Не случайно прошедший в 2008 г. в австралийском Мельбурне Конгресс Международного Комитета Истории Искусства (CIHA, Comité International d’Histoire de l’Art) уделил перечисленным выше вопросам столько сил, интереса и внимания. И всё это навсегда изменило историю истории искусств. Название конгресса «Пересекающиеся культуры», долженствующее обозначать движение во всех направлениях, символизировало изменение парадигмы, заключающееся в отказе от идеи возможности привилегированной точки зрения, а также от представления о существовании неких чистых, не пересекающихся с другими, культур. Вполне понятно, что в силу наличия большого числа участников, имелись и расхождения во мнениях, а также терминологическая неясность. Наличие двух секций под названиями «Перспективы глобальной истории искусства» и «Идея мировой истории искусства» вызвало вопрос о соотношении значений понятий, обозначенных в упомянутых заголовках [24]. Если мы хотим употреблять определение для различения понятий, а не для утверждения неких постулатов, нельзя упускать из вида истории происхождения двух указанных терминов. Пришествие глобального искусства делает необходимым поиск нового определения для мирового искусства, которое должно быть в любом случае освобождено от старого колониального багажа.
Как мы видим, этот конгресс CIHA выделил для разговора о глобальном искусстве отдельную секцию, однако глобальное искусство получило там ярлык современного искусства в новом смысле. «Написание истории современного искусства», как назвал своё эссе Терри Смит [24, 938], — полно парадоксов, поскольку искусство, во многих случаях, идёт вслед за историей и даже оборачивается против истории. Алекандр Альберро, также выступавший в этой секции, заключил, что «вопрос периодизации современного искусства вызвал яростные баталии различных нарративов и историй» [24, 918]. Подобного положения вещей практически невозможно избежать, поскольку современное искусство всегда привязано к некой географической локации — если мы сменим точку зрения, переместившись территориально, это искусство начинает сразу же выглядеть по-другому. Единственный пункт, по которому достигнут консенсус, состоит в том, что понятие «современное искусство» теперь не просто обозначает самые последние по времени создания произведения, но служит различительным маркером по отношению к искусству модерна. Термин «постмодернизм», однако же, не может быть использован, поскольку это понятие является составной частью конструкта «модернизм». Такие же дефиниции как «множественные» или «альтернативные» современности могут послужить лишь тем, кто взывает к некой собственной отверженной или забытой современности[1]. Глобальное искусство является процессом со множеством центров, оно требует для своего описания полифонического дискурса. История искусства разделила мир, тогда как эпоха глобализации стремится вновь восстановить его единство, пусть и на другом уровне. Мы имеем дело с новыми правилами игры: этот процесс открыт для участников, говорящих на различных языках и по-разному воспринимающих искусство на своём местном уровне. Мы сегодня наблюдаем за тем, как складывается новая карта миров искусства (именно так, во множественном числе) [1, 246-254], каждый из которых претендует на географическую и культурную самобытность. Мне лично неоднократно доводилось отстаивать точку зрения, согласно которой история искусства, начиная с эпохи Возрождения, оставалась преимущественно местной традицией, что и было правильно и благотворно сказывалось на самом искусстве. Я назвал это пост-вазарианским нарративом, который, однако же, не мог дать адекватного описания даже религиозной образности средневекового искусства [25]. Постановка вопроса об истории искусств после модернизма, которую задаёт название одной из моих книг [26], развивающей тезис о Конце истории искусств с отсылкой к ситуации исхода современного искусства из поля общей истории искусств, даёт нам понять, что искусствоведение сталкивается после окончания эпохи модерна с новыми вызовами. Глобальное искусство не только ускоряет процесс выхода современного искусства за буйки, расставленные классической историй искусства, оно также расцветает в тех частях мира, где никогда не существовало искусствоведения, если не говорить о колониальных имитациях. Потеря искусствоведением ведущей позиции в теории искусства и в практике выставочной жизни также приводит к повышению значимости кураторского дела и исследований визуальности, которые постепенно вытесняют историю искусства из учебного расписания таких уважаемых академических институций, как лондонский Голдсмитский колледж. Сегодня большинство будущих кураторов изучают политические, социальные и культурологические дисциплины вместо истории искусства, что соответствует современным тенденциям к укреплению в искусстве политической или цивилизационной повестки за счёт эстетической стороны.
Однако же, нельзя говорить о кризисе истории искусства, если только речь не идёт о необходимом кризисе. Пришло время переписать историю искусства на Западе, в том числе для того, чтобы ответить ожиданиям новой аудитории, которая смотрит на западное искусство с иных, собственных позиций. Таким образом, я не могу разделить ныне господствующую в искусствоведении США тенденцию исключать из зоны внимания весь остальной мир — будь то посредством написания «Историй мирового искусства» в планетарном масштабе, которые стремятся реабилитировать старые западные привилегии [27], или же отрицанием возможности функционирования истории искусства за пределами Запада [28]. Напротив, я считаю необходимым укреплять другие, новые нарративы с их местным взглядом на историю искусства, который отвергает покорность перед спесью старых колониальных исследований мирового искусства. Мировое искусство, в прежнем смысле слова, тяготело к поддержке традиционной художественной системы с помощью механизма исключения. Сегодня мы нуждаемся в новой парадигме и в новом постколониальном дискурсе для исследований мирового искусства, которые будут основываться на непредвзятом и равном сравнительном изучении. Например, мы воспринимаем как само собой разумеющееся, что западные университеты изучают китайский язык и китайскую историю, но не обращаем внимания на новость о том, что в Национальном университете Пекина открылся департамент западной классики (греко-римской античности), который проводит двусторонние конференции с Даремским университетом. Обобщая, можно сказать, что существование мировой истории искусства оправдано только в том случае, если это будет межкультурный проект, позволяющий смотреть на западную культуру и историю западного искусства взглядом со стороны. Таков вызов глобального мира — необходимость увидеть и преобразить наши нарративы новыми глазами.
Однако западная история искусств наталкивается на проблемы и на своей собственной территории. Такой проблемой, скажем, является несвязность истории, сочетающей старое, модернистское и сегодняшнее искусство. Линейная логика в генеалогии современного искусства, которую Алфред Барр предложил для нью-йоркского Музея современного искусства в 1930-е гг., более не могла адекватно отображать реальности даже в отношении Запада с 1960-х годов, что и продемонстрировала безуспешная попытка продлить эту генеалогическую традицию на выставке в Тейт Модерн в Лондоне [7,33]. Кроме того, методы истории искусства не могут объяснить логики перехода от отдельного произведения искусства с его фиксированным местом в истории и обеспеченным прибежищем в собрании музея или коллекционера, к арт-проектам, которые являются эфемерными и плохо поддаются документированию, — и это лишь один пример из множества быстро входящих в практику художественного мира новшеств. Не будем жаловаться на такой поворот событий, но зададимся вопросом, не стоит ли истории искусства обернуться и посмотреть на своё собственное прошлое свежим взглядом. Как кажется, нами достигнут водораздел, на котором Запад оказывается в той же самой ситуации, что и все другие культуры. Вхождение в глобальный мир, где художественный процесс приобретает универсальный характер, знаменует не только начало, но и конец, конец старой карты мира искусства с её чётким делением на центры и периферии.
В то же самое время, теперь, когда создание произведений искусства стало всеобщим явлением, очевидно, что разнообразие визуальных культур или историй искусства, лежащее за современными художественными практиками и теориями искусства, является общим, объединяющим фактором. Другими словами, то, что на первый взгляд кажется новой гомогенностью «плоского» мира, если присмотреться, открывается разнообразием традиций, требующих соответствующей полифонии местных нарративов, среди которых окажется нарратив западной истории искусства. В этом же направлении шла моя мысль, когда, в моей недавней книге, я попытался показать, что открытие во Флоренции закона перспективы оказывается на поверку местной новацией, и более того, реакцией на арабскую теорию оптического восприятия (названную «перспективой» в латинском переводе), которая, однако же, была создана в рамках совершенно иной визуальной культуры. Для обретения возможности посмотреть на искусство Запада извне, нам нужны новые исследования на пересечении культур [29]. В наши дни перед историей искусства стоят и другие новые вызовы. Быстрый взлёт новых художественных миров в разных частях планеты требует создания нарратива, который примет во внимание также растущее значение экономики искусства и политики искусства, без учёта роли которых более невозможно адекватное описание художественных процессов. Поэтому документальная часть выставки Глобальное и современное, прошедшей в 2011-12 гг., была, наперекор традиции самодостаточной истории искусства как замкнутой на саму себя системы, в большой своей части обращена к геополитическим и институциональным аспектам, кроме вопросов стиля, инновации и прогресса [1, 50-59]. Целью этого раздела документов было создание пространства для различных и даже состязающихся между собой историй, пришедших на замену единой истории искусства. Конечно, само собой разумеется, что искусство всегда соприкасается с современными ему социальными, религиозными и культурными мирами, но сегодня эта сопричастность как никогда велика; она перетекает во взаимное проникновение, так как в наши дни искусство, говоря сказанными в 1995 г. словами Томаса Макэвелли «имеет отношение более к выражению культурной идентичности, нежели чем к эстетическим чувствам» [30,57]. Искусство не только создаётся, продолжает Макэвелли, «в атмосфере глобального диалога», оно также становится оружием в борьбе разных политик саморепрезентации. Частью этого процесса следует считать появление экспозиционных пространств, которые носят название музеев, но имеют совершенно другую функцию; кроме того, рынок искусство бурно развивается в Азии. Это новое положение вещей, при ретроспективном взгляде, обостряет наше восприятия искусства в его прежнем традиционном состоянии и требует взаимодействия различных историй искусства. Другими словами, современный мир ставит большинство из нас в одинаковую ситуацию пред лицом ещё ненаписанной истории мирового искусства как совместного предприятия.
Список литературы.
- Hans Belting, Andrea Buddensieg, and Peter Weibel (eds.), The Global Contemporary and the Rise of New Art Worlds, exhib. The Global Contemporary, Art Worlds after 1989, ZKM Center for Art and Media Karlsruhe, Sept. 17, 2011 – Feb. 5, 2012, Cambridge, MA: The MIT Press, 2013.
- Bruce Mazlish, “Comparing Global History to World History,“ in: Journal of Interdisciplinary History, vol. 28, no. 3, 1998
- Kitty Zijlmans and Wilfred van Damme (eds.), World Art Studies: Exploring Concepts and Approaches, Valiz, Amsterdam, 2008.
- John Onians, “A New Geography of Art Museums,“ in: Peter Weibel and Andrea Buddensieg (eds.), Contemporary Art and the Museum. A Global Perspec-tive, Hatje Cantz, Ostfildern, 2007
- John Onians (ed.), Atlas of World Art, Laurence King, London, 2004. Данное издание, в котором поучаствовало 68 авторов претендует на то, чтобы целиком охватить историю создания человечеством изображений.
- Marc Augé, An Anthropology for Contemporaneous Worlds, Stanford University Press, Palo Alto (CA), 1999.
- Hans Belting, “Contemporary Art as Global Art,“ in: Hans Belting and Andrea Buddensieg (eds.), The Global Art World – Audiences, Markets, and Museums, Hatje Cantz, Ostfildern, 2009, pp. 38–73.
- Sally Price, Primitive Art in Civilized Places, The University of Chicago Press, Chicago (IL), 1985.
- Hans Belting, Art History after Modernism, The University of Chicago Press, Chicago (IL), 2003.
- James Clifford, The Predicament of Culture: Twentieth-century Ethnography, Literature, and Art, Harvard University Press, Cambridge (MA), 2002.
- Thomas McEvilley, Art and Otherness: Crisis in Cultural Identity, McPherson, Kingston (NY), 1992.
- Arthur C. Danto, “Artifact and Art,“ in: Art/Artifact: African Art in Anthropology Collections, exhib. cat., Center for African Art, New York, et al., The Center for African Art, New York (NY) and Prestel Verlag, Munich, 1988.
- Gerardo Mosquera, “The Third Bienal de la Habana in its Global and Local Contexts,“ in: Rachel Weiss et al., Making Art Global (Part 1): The Third Havana Biennial 1989, Exhibition Histories, vol. 2, Afterall, London, 2011.
- Luis Camnitzer, “The Third Biennial of Havana,“ in: Rachel Weiss et al., Making Art Global (Part 1): The Third Havana Biennial 1989, Exhibition Histories, vol. 2, Afterall, London, 2011, pp. 206–214.
- Jean-Hubert Martin, “Art in a multi-ethnic society,“ in: Africus: Johannesburg Biennale, exhib. cat., Transnational Metropolitan Council, 1995.
- Bernard Dupaigne, Le scandale des arts premiers: La véritable histoire du musée du quai Branly, Mille et une nuit, Paris, 2006.
- Theodore Levitt, The Marketing Imagination, Free Press, New York (NY), 1983.
- “The Global Issue: A Symposium. James Clifford, Boris Groys, Craig Owens, Martha Rosler, Robert Storr, Michele Wallace,“ in: Art in America, vol. 77, no. 7, July 1989.
- Bruce Mazlish, “The New Global History,“ available online at: www.newglobalhistory.com/docs/mazlich-the-new-global-history.pdf, see: p. 5, accessed 09/04/2012. See also: Bruce Mazlish, “On History Becoming History: World History and New Global History,“ available online at: www.newglobalhistory.com/docs/mazlish-on-history-becoming-history.pdf, accessed 09/04/2012. I thank Sara Giannini for this link.
- Paolo Bianchi, “Vorwort,“ in: Bianchi (ed.), “Weltkunst – Globalkultur,“ in: Kunstforum International, vol. 118, 1992, pp. 72–291.
- Hans Belting, “Contemporary Art and the Museum in the Global Age,“ in: Peter Weibel and Andrea Buddensieg (eds.), Contemporary Art and the Museum. A Global Perspective, Hatje Cantz, Ostfildern, 2007, pp. 16–38.
- Rasheed Araeen (ed.), The Other Story: Afro-Asian Artists in Post-war Britain, exhib. cat., Hayward Gallery, London, 1989.
- From the Southern Cross: A View of World Art c. 1940–1988,“ exhib. cat., 1988 Australian Biennale, Biennale of Sydney, 1988.
- Jaynie Anderson (ed.), Crossing Cultures: Conflict, Migration and Convergence. The Proceedings of the 32nd International Congress in the History of Art, The Miegunyah Press, Carlton (Victoria), 2009.
- Hans Belting, Likeness and Presence: A History of the Image Before the Era of Art, The University of Chicago Press, Chicago (IL), 1994.
- Hans Belting, Art History after Modernism, The University of Chicago Press, Chicago (IL), 2002.
- David Carrier, A World Art History and its Objects, Penn State University Press, University Park (PA), 2008.
- James Elkins (ed.), Is Art History Global? Routledge, London et al., 2007.
- Hans Belting, Florence and Bagdad: Renaissance Art and Arab Science, Harvard University Press, Cambridge (MA), 2011.
- Thomas McEvilley, “Here comes everybody,“ in: Africus: Johannesburg Biennale, exhib. cat., Transnational Metropolitan Council, 1995.
[1] Подробнее можно посмотреть в журнале «Third Text» Рашида Араина, а также в Dilip Parameshwar Gaonkar (ed.), Alternative Modernities, Duke University Press, Durham (NC), 2001 и другой подобной литературе.