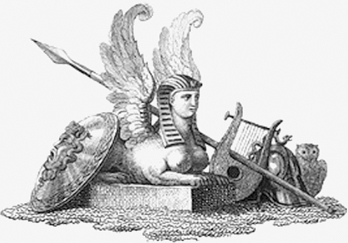Специальный проект IV Конгресса «Глобальное, интернациональное и национальное в науке об искусстве»
Дэвид Саммерс,
Университет Вирджинии.
Открытое множество историй искусства
Значение понятий «глобальное, интернациональное и национальное в истории искусства», а также сравнение этих значений с бывшими в ходу тридцать или сорок лет назад неизбежно ставит вопрос — или воскрешает призрак — старой идеи стиля. Стили — о которых сегодня искусствоведы и критики пишут значительно меньше, чем тридцать и сорок лет назад —определялись формально. С ростом популярности социальной истории искусства «форма» попала в непростую ситуацию, ведь ранее считалось, что она имеет свою собственную автономную историю. Формы могли «эволюционировать» от линейных к живописным, или от тактильных к оптическим, от архаических к классическим и барочным, вне зависимости от революций, переворотов, экономических подъёмов и спадов, безотносительно социально-экономических ролей искусства и художников.
Форма не только считалась автономной, её полагали выразительной вне связи с содержанием. Эта «выразительность» могла быть индивидуальной и автографической — как стиль Кандинского, например, — но могла быть и общей, причем эта «общность» определялась обычно как национальная или расовая (в той степени, в которой различались эти идеи, ставшие актуальными в XIX веке).
В действительности, история искусства как изучение национальных стилей сыграла важную роль в бурном и катастрофическом подъеме национализма и расизма в XIX-XX веках. Считалось, что искусствоведческий анализ позволил понять тот «дух», которым проникнуты произведения, созданные в течение веков на той или иной национальной почве. Так, Алоис Ригль утверждал, что наиболее чистым выражением коллективного духа является беспредметный орнамент. Создатели такого орнамента не просто были воодушевлены, они были воодушевлены сущностью духа, и их искусство воплощало это воодушевление. Сейчас выходит не так много книг с названиями вроде «Английскость английского искусства», но подобные эссенциалистские идеи по-прежнему живы. Рассмотрим пример «эклектизма». Сорок лет назад термин «эклектичный» был однозначно негативным именно потому, что подразумевал нечистоту, подобную расовой нечистоте. «Эклектика» происходит от слова, означающего «выбирать» или «избирать из некоего числа», и считалось, что работа, созданная способом такого подбора, не может быть без изъяна. «Гибридность», недавнее и более позитивное понятие для обозначения комбинации стилей, похоже, не прижилось (и я думаю, нужно принципиально избегать подобных метафор, отдающих биологизмом). Даже появление интереса к так называемому «примитивному» колониальному искусству может считаться попыткой не только «по достоинству оценить» его, но вернуть себе психологическое право арбитра в вопросах стиля и прерогативу зачинателя современных национальных стилей искусства.
Если обратиться к примеру Германии, ставшей нацией в 1871 году, стоит вспомнить, что этому событию предшествовали и его сопровождали горячие споры об определении немецкого национального характера и духа, что вызвало также оживленное обсуждение свойств характера и духа других народов.
Говоря о Пикассо, должны ли мы считать его живопись французской или испанской, либо же она была вне обеих названных национальных традиций, неким иным явлением? Абстрагируясь от происхождения Пикассо, можно назвать его пример достаточно типичным для выходцев из самых разных уголков мира. Кубизм был модернистским искусством, а модернизм — интернациональным. Абстракции Кандинского и Мондриана, каковы бы ни были их местные и национальные истоки, явились отправной точкой для развития искусства в самых разных странах. Они быстро стали восприниматься как «дизайн», определив внешний облик бессчётного числа объектов и устройств. На самом деле то, что было впоследствии названо «интернациональным стилем» в архитектуре, определило облик больших городов по всему миру. Конечно же, интернационализму сопротивлялись всеми силами — по тем же самым причинам, по которым национализм и расизм приветствовались. Согласно господствующим воззрениям, «интернациональное» было синонимом выхолощенного, лишённого корней.
В своей книге «Реальные пространства. История мирового искусства и становление западного модернизма» (благодаря которой я, очевидно, получил приглашение на этот конгресс), я настаивал, что тот тип формализма, который описан в первых параграфах книги, должен быть отвергнут; и, что более важно, что связи и преемственность, которые объясняются через таким образом понятый формализм, должны быть переосмыслены в ином ключе. Через несколько лет ко мне пришло понимание, что книгу стоило назвать немного по-другому. Теперь я бы её озаглавил «Реальные пространства. Истории мирового искусства и становление западного модернизма». «Историю» следует поставить во множественное число. Книга базируется на идее «форм времени», независимых ответов на вызовы времени, которые даются при помощи тех или иных артефактов. Сообщества людей делают типичные вещи в типичных обстоятельствах; они также выделяют вещи типичным образом. Обычная чаша может стать ритуальным сосудом с помощью доработки или нанесения орнамента. Нужные для этого навыки передаются из поколения в поколение, и этот процесс может происходить только на местном уровне.
Для моего проекта было особенно важным то, что эти местные способы изготовления были изолированными, замкнутыми феноменами, существующими в домодерном мире, целиком сложенном из мозаики таких изолированных культур. Эта изоляция являлась единственной причиной того, что на универсальные проблемы отвечали посредством производства различных артефактов. Существует множество способов сделать чашу, построить хижину или дом, и есть ещё больше способов отличить чашу для ритуального употребления или отличить дом местного божества от других домов. Конечно, изоляция не была абсолютной, и одно из преимуществ допущения изоляции состоит в том, что контакты становятся более очевидны. Находка в Помпеях скульптуры из Индии заставляет сразу же задуматься о существовании торговых путей. Ныне мы более не изолированы друг от друга, хотя и связаны исключительно современными, технологическими способами.
Я не думаю, что когда-либо возникнет глобальная история искусства, равно как, по моему мнению, не стоит пытаться её создать — как сказали бы французы, она могла бы быть построена только террористически. Мне кажется, то, что можно назвать мировой историей искусства, должно произрастать из признания, возможно, бесконечной множественности историй искусства, создающихся с более или менее общим пониманием того, чем вообще является история искусства. Пока непонятно, возможен ли такой поворот. Старый эссенциализм нации и расы, по большому счёту, никуда не делся, а теперь его дополнило ещё и понятие идентичности. Эти три основания эссенциализма создают колоссальный барьер взаимного культурного непонимания, результатом чего становится исключительность, сепарация, и конфликт. Критика культуры достигла такого градуса подозрительности, что даже статистические или иные фактические данные легко игнорируются.
Если глобальная история искусства невозможна и нежелательна, как могли бы выглядеть его «мировые истории?» Для того, чтобы понять это, нам стоит отойти от вопросов «формы» и «содержания» и присмотреться внимательнее к формату и медиуму.
«Формат», конечно же, связан с «формой» — это причастие прошедшего времени от латинского formare, «формировать». В буквальном смысле, «формат» — «это уже сформированное», его истоки имеют свою культурную специфику, так как они связаны с какой-то конкретной культурой, определенным временным периодом и социальным пространством. Алтарь создавался не для того, чтобы его экспонировали в музее, и сколь бы красив он ни был, исторически он не на своём месте в выставочном зале. «Холст» сегодня — это синоним картины, «живописи», а живопись является медиумом, на чьем примере мы можем наглядно увидеть фундаментальные перемены в использовании произведений искусства. Сегодня не так много не только значимых произведений современной религиозной живописи или картин с мифологическими сюжетами, но и серьезных современных портретов; при в аэропортах, учебных и культурных заведениях, музеях современного искусства или офисах компаний находится неиссчислимое множество бессюжетных картин на холсте. Мы видим, что холст умеет очень хорошо приспосабливаться к обстоятельствам, а живопись оказалась на протяжении 500 лет замечательно адаптивным медиумом. Более того, несмотря на радикальную перемену в сюжетах произведений, идея живописи на холсте не только сохранилась, но распространилась по всему миру, а сам акт живописания приобрел политическую значимость. Вышло множество книг о «смерти живописи», но они практически не касались смерти формата «живописи на холсте», так как он, несомненно, жив. Холст, как и мольберт, который его фиксирует, важен сам по себе, их вмешательство в некую художественную традицию может быть более или менее инвазивным. Живопись приносит с собой новые правила, новые навыки и новые смыслы в то, что значит создавать искусство. Международный рынок искусства позволяет «холсту», написанному где угодно, оказаться в коллекции в любом другом месте.
Для рассмотрения вопроса о медиуме, вернёмся к названию моей книги, «Реальные пространства. История мирового искусства и становление западного модернизма». «Становление западного модернизма» особенно важно для нас, поскольку оно обозначало появление новых художественных средств, в первую очередь, фотографии и кино, за которыми последовало бурное развитие электронных технологий, положившее конец традиционной изоляции. В большой степени, эти новые технологии позволили осуществить древнюю мечту западного мира - создать имитацию правдоподобия. Фотография действительно фиксирует облик, мгновенно запечатлевая малейшие детали поверхностей, которые взаимодействуют со светочувствительным элементом. В прежние времена похвалы изображению «здесь не хватает только дыхания жизни; портрет следит за нами глазами; портрет вот-вот заговорит» были общим местом. Конец этому положило электричество, оживив изображения и приведя их в движение. Это была гигантская революция, ставшая возможной благодаря долгой средиземноморской традиции исследований в области оптики, затем - достижениям химии и массовому производству. После 1900 года «камеры» мгновенно наводнили весь мир.
Мы предрасположены воспринимать культуру как нечто целое. Старое идеалистическое понятие Weltanschauung, «мировоззрение», предполагает наличие глубокой единой позиции, общей для всех людей, принадлежащих некой культуре, каждый их которых, таким образом, считается типичным представителем своей группы. В какой-то степени это верно - мы говорим «американцы поступают так-то, русские так-то» - но верно лишь отчасти, как в силу индивидуальных и групповых различий внутри каждой культуры, так и потому, что зачастую инновации, возникшие в той или иной культуре, выходят за её границы. Колесо когда-то было где-то изобретено, что можно сказать также о письме, системах счёта, алфавите, бумаге и книгопечатании, однако все эти изобретения преодолели культурные границы и стали всеобщим достоянием, частью обширного культурного багажа, способного принимать множество разнообразных форм, специфичных для той или иной культуры. Это справедливо также в отношении фотографии и электронных технологий. Смартфоны компактны и поэтому повсеместны, они позволяют мгновенно зафиксировать любое событие. Поскольку полученный образ совместим с другими средствами телекоммуникации, он может стать «вирусным» и даже свергнуть правительство.
Отчётливо современные слова, такие как телефон, телеграф или телевидение — а равно и прочие составляющие системы «телекоммуникаций» — включают греческое слово «телос», определяющее смысл кластера понятий, имеющих отношение к целям и намерениям, с акцентом на временных и пространственных интервалах, необходимых для их достижения. Нам нужно идти в магазин, чтобы купить еду, куда-то ехать, чтобы увидеться с друзьями; выполнение рабочих дел требует времени, плоды созревают только осенью. Телекоммуникации упраздняют пространственную дистанцию и способствуют одновременности происходящего . Учитывая размеры Земли, скорость света и возможности современных средств передачи, сегодня мы живём, в основном, в одном и том же времени. Пишем мы или читаем, говорим или слушаем, наблюдаем или являемся объектами наблюдения, телекоммуникации уничтожают дистанцию. В принципе, мы теперь в курсе всех радостей и печалей мира, и весь мир знает о наших радостях и печалях.
Этот конгресс ставит вопросы о новых трендах и тенденциях. Вместе с привычкой мыслить в категориях единой, неменяющейся культуры, существует тенденция мыслить в терминах исторической необходимости. Это, как многие отмечали, скверная гегельянская привычка, которая заставляет думать, что позднейшие явления всегда вытесняют более ранние. Говорить, что фотография и электронные медиа полностью заняли место предшествующих медиа — это значит отрицать те возможности для игры воображения, которые предоставляются более ранними медиа, возможности, которые позволяют им существовать наряду с новыми. Ведь чем больше возможностей — тем лучше.