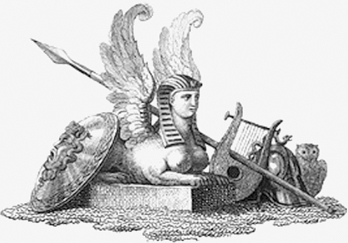Mea Memoria. В поисках недосказаннного
Мурина / Сарабьянов
Поскольку сам Дмитрий Владимирович не может ответить на предлагаемые вопросы, я взяла на себя смелость ответить на них за него в письменной форме, опираясь на соответствующие архивные материалы, а также на свои воспоминания и разговоры, происходившие во время многолетней совместной жизни.
Е.Б.Мурина
- Какие классические и современные (на тот момент) западные работы по истории искусства Вы и Дмитрий Владимирович читали, когда учились в университете и потом, занимаясь научной работой? Какие из них оказали на вас влияние? Вы воспринимали их прежде всего как источник информации или были интересны также методологические подходы?
У Дмитрия Владимировича очень рано произошло знакомство с классиками западноевропейской искусствоведческой науки. В его архиве сохранился доклад о Питере Брейгеле Старшем, который он написал, будучи студентом, в 1942 году в семинаре, кажется, Г.А.Недошивина. В своей работе он опирался на труды специалистов по творчеству Брейгеля, в основном классиков немецкого искусствознания. Он хорошо знал немецкий язык и в докладе использует цитаты из различных книг, переведенные им самим на русский язык. Я перечислю авторов, на которых он ссылается в примечаниях к тексту: R. van Bastelaer. Les estampes de PeterBruegel l’Ancien (Брюссель, 1908); Ch.Bernard. Pierre Bruegel l’ancien (Брюссель, 1908); М.J.Friedländer. P.Bruegel(Берлин, 1921); W.Hausenstein. Der Brauern-Bruegel (Мюнхен, 1908); G.Glück. Bruegels Gemälde (Вена, 1932); É.Michel. Breugel (Париж, 1931); Сh. de Tolnay. Die Zeichnungen Pieter Bruegels (Мюнхен, 1925); из переведенных книг: М.Дворжак. «Очерки по искусству средневековья» (Москва, 1934); К.Фолль. «Опыты сравнительного изучения картин» (Москва, 1916).
Еще более интересен другой сохранившийся в архиве доклад — «Готика и Ренессанс», написанный в семинаре Г.А.Недошивина по западному Средневековью в 1946 году после демобилизации из армии и возвращения на искусствоведческое отделение МГУ, на второй курс. За годы участия в войне Д.В. соскучился по профессии и сразу же показал свои впечатляющие способности к научной работе. Помню, что сам вид огромного доклада, напечатанного на пишущей машинке и оплетенного в твердый переплет, вызвал у нас, его однокурсников, настоящий шок. Мы-то писали свои доклады на добытых с трудом бумажках или в лучшем случае в школьных тетрадках, а тут такое: пишущая машинка, более ста страниц текста, сноски на иностранных авторов! Недошивин предложил нам прослушать этот показательный доклад, и мы были поражены и его содержанием, и количеством проработанного материала. К сожалению, тот экземпляр доклада несколько лет спустя попросила у Д.В. Ксения Муратова, начавшая читать лекции по Средневековью на искусствоведческом отделении, да так его и не вернула. А я сейчас пользуюсь сохранившимся, к счастью, черновиком этого доклада, который меня, спустя более 70 лет, поразил основательностью и, можно сказать, такой ранней зрелостью научного подхода к сложной теме. Первая глава доклада была посвящена историографии проблемы соотношения готики и Ренессанса. Русских книг на эту тему было немного. В основном Д.В. пользовался различными западноевропейскими авторами: Я.Буркхардт. «Культура Ренессанса в Италии» (теперь переводится как «Культура Италии в эпоху Возрождения»); Дж.Вазари. «Жизнеописания…» (Москва — Ленинград, 1933); В.-И.Гёте. «Путешествие в Италию» (Москва, 1935); Ч.Ченнини. «Мастера искусства об искусстве» (Т.1, Москва, 1944); D.Frey. Gotik und Renaissance als Grundlagen der modernen Weltanschauung (Аугсбург, 1929); W.Goetz. Mittelalter und Renaissance; J.Huizinga. Herbst des Mittelalters (Мюнхен, 1919); J.Huizinga. Wege der Kulturgeschichte(Мюнхен, 1930); A.Schmarsow. Barock und Rokoko (Лейпциг, 1897); A.Schmarsow. Gotik in der Renaissance(Штутгарт, 1921); C.Schnaase. Geschichte der bildenden Künst (Дюссельдорф, 1876); H.Thode. Franz von Assisi unddie Aufänge der Kunst der Renaissance in Italien (Берлин, 1885); W.Worringer. Die Anfänge der Tafelmalerei (Лейпциг, 1924); W.Worringer. Formprobleme der Gotik (Мюнхен, 1912).
Конечно, он читал книгу Г.Вёльфлина «Основные понятия истории искусств», переведенную и изданную еще до войны. Уже в начале учебы у него было довольно серьезное знание западного искусствознания, в основном немецкого, которое господствовало в мире большой науки с конца XIX века, в 1920-е — 1930-е, да и в послевоенные годы. Он пользовался не только Библиотекой им. В.И.Ленина, но и своими книгами, которые привез после демобилизации из армии, собрав два больших чемодана этих книг в разрушенных или брошенных домах, когда его полк в самом конце войны стоял в Германии. Среди них были шесть томов истории мирового искусства — Propyläen Kunstgeschichte, по тому времени роскошного издания с черно-белыми и цветными иллюстрациями, что было большой редкостью. Были монографии о классиках искусства и по истории мирового искусства. Думаю, что Д.В. с его обстоятельностью все это прочитал. Судя по его докладу, он не только изучал книги как источники информации, но и отмечал методологические различия в трактовке проблемы взаимодействия готики и Ренессанса у цитируемых им авторов. Среди нас, его соучеников, он был явным исключением. Мы вообще были далеки от этой проблематики. Тем более что в самом процессе лекционных курсов эти вопросы не только не обсуждались, но и не ставились. Напомню, что уже с 1920-х годов советская идеология признавала правильной только марксистско-социологическую методологию в изучении исторических и гуманитарных наук. И после разгрома вульгарной социологии в 1930-е годы она утвердилась как истина в последней инстанции. Ни о каких других методологиях не могло быть и речи ни в студенческой среде, ни даже в преподавательской, хотя на нашем отделении сосуществовали представители классического искусствознания и приверженцы марксистско-социологической методологии. Но до конца 1940-х годов скрытое противостояние этих направлений не проявлялось и до большинства студентов не доходило. Мы ценили наших преподавателей: В.Н.Лазарева, Б.Р.Виппера, М.В.Алпатова, А.А.Губера, Ю.Д.Колпинского — представителей классического искусствознания — или А.А.Федорова-Давыдова, Г.А.Недошивина, Н.Н.Коваленскую — марксистов, — за их научный авторитет, талант, личные качества. К тому же марксистский метод при всех его декларациях так и не нашел путей к органическому слиянию с художественным материалом, а классовые определения явлений искусства как-то не укладывались в лекционные курсы. По крайней мере, я не помню, чтобы лекции Н.Н.Коваленской о русском искусстве ХIХ века строились на основе марксистской методологии. То же самое могу сказать и о лекциях Г.А.Недошивина по западному Средневековью, которые он читал нам на втором курсе в 1946 году. Правда, после партийных постановлений о состоянии советской культуры 1946 года, и особенно 1948 года, ситуация резко изменилась. Марксисты в лице А.А.Федорова-Давыдова активизировались. Зазвучали слова «буржуазное искусствознание» (имелось в виду классическое), «преклонение перед загнивающим Западом», «космополитизм» и тому подобные клише. Разумеется, в эти позорные годы, совпавшие с нашей студенческой жизнью, ни о каких различных методологических подходах, тем более западноевропейских, не могло быть и речи, даже в дискуссионном формате. Железный занавес отгородил нас от западной науки, как мы думали, навсегда.
Все это непосредственно коснулось Д.В. На него, такого перспективного студента, сделал ставку заведующий кафедрой русского искусства А.А.Федоров-Давыдов. Он очень хорошо относился к Сарабьянову и увидел в нем будущего значительного историка русского искусства ХIХ века. Несмотря на увлечение Д.В. древнерусским искусством, написавшего в семинарах М.А.Ильина и Г.А.Недошивина серьезные доклады («Тайнинская церковь Благовещения», «Толгская икона Божией Матери ХII в.»), диплом он писал об Илье Репине 1880-х годов. В этом выборе профессии сыграл большую роль и Г.А.Недошивин. В одном из неопубликованных автобиографических материалов Д.В. писал: «Наибольшее влияние испытал со стороны Г.А.Недошивина, находясь под магическим воздействием его гибкого ума, умения мыслить (а подчас и оправдывать многие ужасы жизни и искусства). Диссертацию писал под руководством Федорова-Давыдова, который еще сохранял остроту восприятия и парадоксальность мышления». Тему его кандидатской диссертации предложил Алексей Александрович — «Народно-освободительные идеи русской живописи второй половины ХIХ века», в работе над которой социологическая методология, казалось бы, диктовалась самим материалом искусства. Однако Д.В. уклонился от такого подхода и сосредоточился на анализе идейно-нравственно-общественных источников реализма 1870-х — 1880-х годов. Диссертация была издана в 1955 году в издательстве «Искусство». И он впоследствии счел возможным признать, что, «когда возвращался к русскому искусству второй половины прошлого века, не все в этой книге оказалось безнадежным».
Когда во второй половине 1950-х годов Д.В. приступил к самостоятельной научной работе, как раз наступило время оттепели — время освобождения от идеологического давления сталинизма. Я напоминаю об этих общеизвестных истинах, потому что для нашего поколения, как бы мы ни относились к Сталину, это было и время кризиса и подъема для таких творчески одаренных гуманитариев, как Д.В., импульсов к пересмотру профессиональной проблематики. В начале 1960-х годов он решил писать докторскую диссертацию о Павле Федотове, и перед ним встал вопрос о поисках какой-то альтернативной марксизму методологии. На что опираться? Советское искусствознание все еще перепевало марксистскую методологию, полностью дискредитированную в его глазах, как и вся идеология социализма, после падения сталинизма. Примеров других методологий не было. Благодаря стойкости таких ученых, как В.Н.Лазарев, М.В.Алпатов, Б.Р.Виппер, Н.И.Брунов, М.А.Ильин, и многих других, в том числе их учеников и последователей, традиционные навыки классического искусствознания сохранялись и давали результаты в академической науке. Но в западном искусствознании уже с начала 1920-х годов возникли тенденции к выдвижению новых методологических и концептуальных направлений, о чем до нас, несмотря на железный занавес, доходили кое-какие слухи. Помню, как Д.В. наконец дорвался до легендарной книги Г.Зедльмайра «Утрата середины» (1925) и как я ему завидовала, потому что с моим далеким от совершенства немецким не могла ее прочесть. Позднее, в кратком предисловии к несостоявшемуся болгарскому сборнику его работ (1988), он написал: «Из искусствоведческих увлечений 60-х — 70-х годов самым сильным было увлечение Зедльмайром, который сумел типологию соединить с конкретным анализом (например, в исследовании картины Брейгеля „Слепые“)». Он никогда не причислял себя к последователям великого австрийца, даже в разговорах со мной. Только где-то полушутя назвал себя его эпигоном. Но теперь, когда его уже нет, я могу позволить себе сказать, что в докторской диссертации о Федотове (1970) он все-таки попробовал реализовать свое увлечение Зедльмайром, поставив перед собой задачу «соединить типологию с конкретным анализом». Это давало возможность совершенно по-новому подойти к анализу материала и, как он написал позднее, «преодолеть традиционно передвижническое понимание сущности этого художника… ввести его в контекст русской художественной культуры 40-х годов ХIХ века, сопоставив творчество живописца с теми явлениями, которые происходили в 40-е годы и в литературе, и в театре. То есть расширить традиционное представление о монографическом исследовании, выйти за рамки творческой биографии, максимально приблизившись к конкретному произведению в процессе его анализа, соединить это частное с широкой проблематикой». Тогда, как я думаю, никто не заметил, что Д.В. вышел на новый уровень осмысления русского искусства ХIХ века. По сравнению с привычной, как правило позитивистской, сосредоточенностью специалистов на описании фактов, стиля, влияний вне типологически-культурного анализа и смысловых обобщений это была новаторская работа.

Дмитрий Владимирович Сарабьянов в Миннеаполисе. 1973 год
Д.В. продолжал следить, по мере возможностей, за западным искусствознанием и современной философией. По его словам, он «в 60-е — 70-е годы стал интересоваться семиотическими и культурологическими методами исследования. При этом не помышляя об измене традиционным приемам искусствознания. Недостижимым идеалом оказалось органическое включение конкретного анализа явления искусства (во всей его „микроскопичности“) в широкую сеть общетипологических координат». Помню, что большое впечатление на него произвела книга М.Фуко «Слова и вещи», изданная на русском языке в 1966 году. Он считал его анализ картины Диего Веласкеса «Менины» образцом искусствоведения, обогащенного философией. Когда я писала монографию о Винсенте ван Гоге, он мне посоветовал прочитать в книге М.Хайдеггера «Бытие и время» анализ серии вангоговских картин с башмаками, который тоже считал образцом для искусствоведа. Тогда же на нас большое впечатление произвела книга П.П.Гайденко «Трагедия эстетизма: опыт характеристики миросозерцания Серена Киркегора» (1970). Экзистенциализм Киркегора, известного в русских философских и литературных кругах конца
XIX — начала ХХ века и забытого в послереволюционные годы, вошел в нашу жизнь и во многом изменил наше самосознание. В отличие от меня, нашедшей в понятии «экзистенция», когда я писала о ван Гоге, некий код к пониманию уникальности его творчества, Д.В. воспринял эту «философию существования» в сугубо личностном плане. Это не отразилось на его методологии, но повлияло на мироощущение.

Дмитрий Владимирович Сарабьянов и Джон Боулт. Нью-Йорк. Конец 1973 года
Его следующая большая книга — «Русская живопись ХIХ века среди европейских школ: опыт сравнительного исследования» (1980) — была задумана как еще один «шаг в плане расширения историко-художественного контекста, в котором существовало русское искусство». В ней он всесторонне рассмотрел национальное своеобразие русской живописи в ее типологических и семиотических связях и различиях с проблематикой живописи в основных европейских странах. Этот, в сущности, первый опыт такого подробного компаративистского сравнения привел Д.В. к открытию некоторых особенностей исторического пути русского искусства. Например, одна из них описана позднее как «ситуация разрыва в истории русского искусства» в специальной статье. Или свойство смиренно принимать влияния более продвинутых западных школ и вдруг, переварив эти влияния, делать скачок вперед, к более значительным художественным высотам. Как, например, Александр Иванов и назарейцы. Эта книга, к сожалению не переведенная на другие языки, очень убедительно показывает вклад России в западную живопись ХIХ века, до сих пор явно недооцененный. Возможно, последняя глава, касавшаяся начала ХХ века и включавшая авангард, при тогдашней цензуре не опубликованная (была позднее опубликована в «Советском искусствознании»), увеличила бы шансы на ее признание.
Стремление к обновлению методологического исследования русского искусства приводит Д.В. во все последующие годы к усиленному вниманию к достижениям современной философской мысли. «Прежняя философия, как известно, хорошо послужила искусствознанию — в тот момент, когда формировалась эта наука. Может быть, еще и остались резервы для ее использования. Но более важная задача — освоение опыта новой философии (разумеется, без утраты специфики искусствознания как науки)… Дело, конечно… в тех перспективах, которые открывают концепции Хайдеггера, Гадамера, Фуко и Башляра, современной феноменологии и герменевтики, Пригожина и Мерло-Понти, различные проявления постструктурализма… Я вовсе не предлагаю следовать всем сразу… Я лишь предлагаю вести научный поиск по тем направлениям, которые намечены разными философскими школами». Эти мысли он излагал на конференции «Теоретические проблемы современного искусствознания» в 1994 году. Но сам он уже в 1960-е — 1970-е годы пытался обогащать свою исследовательскую методологию, изучая и обдумывая различную проблематику, выдвинутую западными философами, о которых говорилось выше. Не менее важны для него были русские религиозные философы начала ХХ века — Н.А.Бердяев, Н.О.Лосский, особенно о.Сергий Булгаков, а из современников — В.А.Подорога (последователь Хайдеггера) и философ и богослов С.С.Хоружий. Хочу отметить, что Д.В. был очень критичен по отношению к собственным философским возможностям, считая себя «эклектиком». «Когда я говорю о подобном влиянии, это не значит, что я вгрызаюсь в концепцию, все тщательно взвешивая, логически мысля. Увы — нет. Я врожденный интуитивист» (из письма к одной из любимых учениц). Но получаемые им творческие импульсы, вопреки этой самооценке, заметно обогащали его постижение искусства новыми подходами к потаенным смыслам произведений искусства. Это нашло отражение во всех разделах его последней книги — «Русская живопись. Пробуждение памяти» (1998).
Книгу пронизывает сквозная тема, объединяющая множество вошедших в нее статей, написанных в разное время, а иногда и специально для нее, в целостное создание мысли и пера. Тема — пробуждение памяти — обращена к самым глубинным религиозно-духовным традициям, которые со времен древнерусского искусства, вопреки секуляризованности культуры Нового времени, потаенно, опосредованно сохраняются в памяти самой живописи вплоть до ХХ века. Понятно, что эта тема не разрабатывалась советской наукой даже в тех случаях, когда речь шла о религиозных сюжетах (например, Александра Иванова). Но Д.В., так много и долго изучавший русское искусство, созрел, чтобы «представить новый аспект рассмотрения русской живописи и обращения к еще не тронутому исследованием полю его реализации». Он был уверен, что разработка этой темы «была бы весьма плодотворна», так как «открывает некие дополнительные возможности для анализа уже давно исследованных явлений в истории русского искусства».
К постановке этой, ранее никем не востребованной проблематики Д.В. во многом подтолкнуло понятие менталитета, выдвинутое видным представителем школы «Анналов» — Ж. Ле Гоффом. Методологические возможности категории менталитета Д.В. видел в том, что «менталитет можно истолковать как некий синтез чувствований, представлений о вселенной, понимания мира, места в мире человека, веры, религиозных представлений, представлений эстетических». Под этим углом зрения он и подходит к методологии своего понимания особенностей и своеобразия русской живописи с ХVIII до ХХ века. Правда, это не единственный аспект его изысканий. Он считал, что «мы должны принимать во внимание и то, что в процессе сложения национальной картины мира огромную роль играли не только религиозные представления, но и многие другие факторы: язык, характер окружающей природы… своеобразие пространства, заполненного тем или иным народом, историческая судьба нации, взаимоотношения народа с соседними народами и многое другое, что дает культуре перспективу свободного развития и одновременно осуществляет божественное предопределение». Поэтому он начинает книгу с размышлений на такую традиционную тему, как Россия между Западом и Востоком. Его выводы очень интересны, но здесь нет возможности их пересказывать, как и содержание другой, я бы сказала главной, статьи — «Русская живопись: вид сбоку». Она состоит из трех частей, посвященных философским проблемам, впервые сопоставленным с русской живописью: «Предмет и материя» (вспоминая Хайдеггера), «Тело в пространстве» и «Глаз и ухо» (под впечатлением от Мерло-Понти и Подороги). Потому и «вид сбоку», что Д.В., по его словам, «рискнул оказаться в стороне от традиционного подхода» и смог обосновать суть предпочтения русской живописью — на всем протяжении ее развития — материи и пространства как первосути по отношению к предмету и телу.

Дмитрий Владимирович Сарабьянов и Шарлотта Дуглас. Нью-Йорк. 1973 год
Такой подход к явлениям русского искусства, особенно искусства ХХ века, был абсолютным новшеством и стал, по сути дела, вызовом к дерзанию и обновлению. Не знаю, был ли он услышан. Помню, что статья Д.В. «Русский авангард перед лицом религиозно-философской мысли» (1993) вызвала у большинства коллег недоумение и даже неприятие. Однако на Западе Зедльмайр давно утвердил органичность такого подхода к классическому искусству. Правда, Д.В., как человек другого времени, в отличие от Зедльмайра, не принявшего, начиная с Поля Сезанна, новое искусство ХХ века, утратившее «середину», то есть Бога, и потому, по его логике, обреченное на формализм, не принимал эту позицию. Он, любивший русский авангард и много им занимавшийся начиная с 1960-х годов, настаивал на его метафизической содержательности, впитавшей не только самые различные философско-символические источники, но и глубоко скрытую, врожденную, архетипическую связь с православием. В этом принципиальном расхождении с Зедльмайром-католиком Д.В. опирался на убеждение православного священника С.Н.Булгакова, утверждавшего, что «из всех „секуляризованных“ обломков некогда целостной культуры — культа искусство в наибольшей степени хранит в себе память о прошлом в сознании высшей своей природы и религиозных корней». Пробуждение этой памяти Д.В. и проследил на всех этапах русской живописи — от портрета ХIХ века до авангарда ХХ века.
Мои соображения о главной, как я думаю, книге Д.В. схематичны. Она, как живой организм, не однолинейна, а очень многообразна. Как он сам написал, «в ней многое инспирировано не стремлением к оригинальному повороту концепции, а желанием поделиться своими чувствами, возникающими при созерцании замечательных произведений русской живописи». Получилась очень личная, быть может, самая «сарабьяновская» книга. При этом содержащиеся в ней статьи «подводят нас к общей теории искусства», как написал А.К.Якимович в своей интересной рецензии на эту книгу — к сожалению, не опубликованной.
- Какими были первые контакты с европейскими учеными?
В 1950-е годы контакты были возможны только с искусствоведами из Восточной Европы, представителями народных демократий. Запомнились встречи с чешскими учеными. Сначала с Душаном Конечны, который жил в Москве, так как был женат на нашей коллеге. Она нас с ним познакомила, и завязались дружеские отношения. Он познакомил нас с приехавшими в Москву в начале 1960-х годов ведущими чешскими искусствоведами: В.Новотным, И.Халупецким, М.Ламачем, И.Падартой. Они почувствовали, что Д.В. противостоит советскому официозу, и стали у нас бывать. Все были явно настроены против советской идеологии и соцреализма. В мае — июне 1968 года они пригласили Д.В. на девять дней в Прагу на коллоквиум по Франтишеку Купке. Это был самый разгар Пражской весны. В Министерстве культуры ему оформили командировку, так как не знали, кто такой Купка. Эти дни были самым пиком Пражской весны, и Д.В. посчастливилось рядом с чешскими коллегами подышать воздухом свободы, которой была пропитана вся атмосфера политической и художественной жизни города. Он был в восторге от всего, что видел и слышал. Когда вернулся, охотно рассказывал о своих впечатлениях всем желающим — коллегам и художникам, с которыми мы дружили. О позорном вводе советских войск в Прагу мы с ужасом узнали, живя в августе в глухой деревне в Костромской области. Казалось, что это был конец не только для чехов, но и для всех нас.
- Существовало ли, на Ваш взгляд, различие западного и русского подходов к исследованию русского искусства и предмету искусства в целом? Ощущалась ли разница в методах?
У русского искусствознания были свои особенности. Как я писала, Д.В. работал с очень широким охватом материала. Это вообще характерно для русского искусствознания. Такие корифеи, как В.Н.Лазарев, М.В.Алпатов, Б.Р.Виппер или марксисты И.И.Иоффе, А.А.Федоров-Давыдов, никогда не замыкались в границах своей специализации. В.Н.Лазарев, византолог и древнеруссник, писал и читал лекции об итальянском искусстве Возрождения, написал монографию о Жан-Батисте Шардене. М.В.Алпатов писал обо всем, что его интересовало — от Андрей Рублева до Пабло Пикассо. Б.Р.Виппер, специалист по западноевропейскому искусству ХVII века, написал книги об искусстве античной Греции и искусстве Англии. И следующее поколение искусствоведов, например Н.А.Дмитриева, Е.И.Ротенберг, И.Е.Данилова, В.Н.Прокофьев, унаследовали этот универсализм в подходе к предмету истории искусства. Причем это касается не только упомянутых мною специалистов по западному искусству, но и специалистов по искусству русскому. Самый глубокий, по моему мнению, специалист по русскому искусству XIX — начала ХХ века М.М.Алленов писал о многих художниках этого времени, а также об искусстве ХVIII века и советского периода. В книге «Тексты о текстах» (2003) он выступил с интереснейшими философско-теоретическими размышлениями о природе искусства. Да и других его коллег не назовешь узкими специалистами. Например, обширная библиография В.С.Турчина говорит о чрезвычайном многообразии его интересов в пределах искусства ХIХ–ХХ веков — как русского, так и западноевропейского. А может ли быть вне России такой искусствовед, как А.К.Якимович, который пытается, по его словам, приблизиться к общей теории культуры «через метод эпистемологии картин мира», используя материал мировой культуры от XVII до XXI века?

Дмитрий Владимирович Сарабьянов и Понтус Юльтен. Париж, Центр Помпиду. 1979 год
Другая особенность русского искусствознания — обязательные поиски языка, соответствующего образно-метафорической природе искусства. Это касается очень многих авторов. Назову хотя бы такого главного нашего стилиста, как М.В.Алпатов. М.М.Алленов считал, что «искусствознание сродни самому искусству» (так он назвал некролог В.С.Турчину в 2015 году). Характерно, что издатель книги Д.В. «Русское искусство: от классицизма до авангарда» (Нью-Йорк,
Abrams, 1990) выразил в письме к нему крайнее недовольство «сложностью» его языка для перевода на английский, поскольку, как заметил Д.В., американцы предпочитают деловую строгость и даже сухость изложения. Все это говорит о близости русского искусствознания к немецким и французским научным традициям. Это касается и методологии русских ученых, особенно старшего поколения, которые сосредоточивались в первую очередь на описании и анализе мировоззренческих и стилистических изменений искусства в контексте социально-общественных условий. Д.В. не случайно призывал коллег обновлять свою методологию, опираясь на новые западные влияния и новейшую философию.
Различие с нашим искусствознанием в подходах к изучению предмета истории искусства (в частности, русского) демонстрирует американское искусствознание. На это различие Д.В. обратил внимание, когда в 1973 году в течение трех месяцев преподавал в Миннесотском университете в Миннеаполисе. Он заметил, что специализация студентов и преподавателей оказывается слишком узкой: либо какой-то короткий отрезок истории искусства, либо один художник или одно направление. Кроме того, как он написал, «чувствуется тенденция вульгарной социологии, что характерно для всей американской науки» (из его отчета о командировке). Когда я в 1989 году была в гостях у Шарлотты Дуглас, она поехала на какую-то очень представительную конференцию американских искусствоведов в Чикаго и, вернувшись, с недовольством сказала, что там преобладали марксисты. Но если судить по теперешним американским специалистам по русскому авангарду, то марксизмом они не увлекаются, а тенденция к узкой специализации для них характерна. Такой подход имеет свои преимущества, и недаром американское искусствознание вышло в конце ХХ века на передний план. Во всяком случае, поколение русских учеников Д.В., занимающихся авангардом, выбрало эту методологию, требующую углубления в архивные материалы, в собирательство нужных исторических фактов, изучение прессы и культурного контекста для полноты раскрытия исследуемого явления искусства. Установка на такое скрупулезное исследование дает иногда впечатляющие результаты. Поколение учеников Д.В., занимающихся русским авангардом, приняло, как мне кажется, эту традицию и работает, как он полагал, очень успешно. Кстати, Д.В. считал своим недостатком «слабость в собирательстве, архивном изучении», особенно когда дело касалось монографий.
- Был ли известен западным коллегам кто-то из авторитетных для Вас российских ученых? Кто это был? Какие темы и труды были им интересны?
Известны были: В.Н.Лазарев — благодаря публикациям в западной научной периодике в 1930-е годы и особенно его книге «История византийской живописи» (1946–1947), переведенной на итальянский язык в 1967 году в новой редакции; М.В.Алпатов, труды которого, особенно по древнерусскому искусству, переводились на иностранные языки. Наверное, знали Б.Р.Виппера, когда он был в эмиграции в Риге до 1939 года и имел прямые связи с европейскими коллегами. Известностью пользовался Н.И.Харджиев, единственный в течение многих лет специалист по русскому авангарду, издавший свою главную книгу «К истории русского авангарда» в Стокгольме в 1970 году. Западным специалистам по авангарду был известен Е.Ф.Ковтун, в 1960-е годы начавший заниматься русским авангардом и часто публиковавший статьи на Западе.

Дмитрий Владимирович Сарабьянов и Киёми Нитта
- Какие западные публикации и работы обсуждались в кругу искусствоведов в 1960 — 1980-е годы?
Насколько я помню, в кругу искусствоведов в те годы не было принято обсуждать западные публикации. Где-то в 1970-е годы нас очень заинтересовал Э.Панофский и чуть позднее Я.Бялостоцкий и их новая наука — иконология. Но широкого интереса к этому новшеству не было. Я как-то заговорила об этом с Е.И.Ротенбергом, но он к иконологии относился очень сдержанно. Конечно, обсуждался выход книги Камиллы Грей «Великий эксперимент: русское искусство. 1863–1932» (Нью-Йорк, 1962), хотя ее еще не видели. О книге мы узнали от Олега Прокофьева, с которым дружили. Камилла была его невестой и поехала в Лондон получить от родителей благословение на брак с Олегом. Но из-за выхода книги ее не пускали в Россию, и только в 1969 году в Москве состоялась их свадьба, на которой мы были. А книгу ее мы увидели гораздо позже, уже после трагической смерти Камиллы в 1971 году. Помнится, что в 1960-е годы нашумела небольшая книга французского коммуниста и марксиста Р.Гароди «Реализм без берегов», каким-то чудом переведенная на русский язык и изданная, кажется, в 1965 году. Против нее, когда партийные идеологи опомнились, была организована критическая кампания, так как Гароди писал о Пикассо, о Шарле Сент-Бёве, о Франце Кафке и других запрещенных у нас деятелях культуры ХХ века и художественные и литературные круги восприняли ее как призыв расширить границы социалистического реализма.
- Какие впечатления оставило участие в первых международных конференциях?
Впервые на заграничную конференцию Д.В. попал в сентябре 1955 года — на Международный конгресс по византиноведению в Стамбуле. Дело в том, что на этот конгресс выпустили многие годы невыездного В.Н.Лазарева, а Д.В., бывший в то время заместителем И.Э.Грабаря по науке в Институте теории и истории изобразительных искусств, должен был его сопровождать. Он даже написал доклад «К вопросу о взаимоотношениях древнерусского и византийского искусства», который прочел на французском языке. Сохранился его отчет об этой поездке, запланированной конгрессом, в котором он восторженно описывает впечатления от Стамбула, Св.Софии, Кахрие-Джами, а также от осмотра памятников античного и византийского искусства, увиденных во время путешествия по городам Греции, начиная с Афин. За время поездки Д.В. и Лазарев очень подружились и с тех пор ходили вместе на футбол, а иногда Виктор Никитич приглашал нас в гости. Обратно они возвращались через Париж, где переночевали в одном гостиничном номере и вынуждены были спать на одной кровати, так как в советском посольстве им дали недостаточно денег для двух номеров. Вот такая характерная деталь из тех далеких времен. Правда, оба отнеслись к этому с юмором. Зато им дали визу на трехдневную поездку в Венецию, где проходила большая выставка картин Джорджоне. Такой вот самой счастливой была первая в жизни Д.В. конференция.

Николетта Мислер и Джон Боулт в гостях у Дмитрия Владимировича Сарабьянова и Елены Борисовны Муриной. 2000 год
- С кем из европейских и американских исследователей русского искусства общался Дмитрий Владимирович Сарабьянов? Можно ли отметить влияние на него каких-то западных исследователей? Какими работами он увлекался?
О влияниях и увлечениях Д.В. западными исследователями я уже написала. Что касается его общения с исследователями русского искусства, то они были очень многочисленны, так как Д.В. с конца 1960-х годов и особенно в 1970-е часто выезжал в разные европейские страны с докладами или выступлениями на открытии выставок русского искусства. Я остановлюсь только на тех, с которыми Д.В. имел близость научных интересов или отношения с которыми носили дружеский характер. Одним из первых был Владимир Фиала, чешский искусствовед, занимавшийся русской живописью ХIХ века. Он бывал в Москве и приходил к Д.В. с разными вопросами. В 1975 году состоялось знакомство с искусствоведом из ГДР Петером Файстом, профессором Университета им. Гумбольдта, ведущим специалистом по проблемам современного искусства. Очень теплые отношения возникли у Д.В. с искусствоведом и переводчицей его книги о Роберте Фальке Robert Falk. 1886–1958 (Дрезден, 1974), хорошо знавшей русский язык, Евой Вохак. Из исследователей авангарда, по-моему, первой к нему пришла познакомиться англичанка Мэри Шамо, уже очень пожилая женщина, знавшая Наталию Гончарову и издавшая о ней книгу-альбом «Гончарова» (Париж, 1962), которую ему подарила. Потом, в начале 1970-х годов, к нему пришли Валентина и Жан-Клод Маркаде, принесшие в подарок ее книгу «Возрождение русского изобразительного искусства. 1863–1914» (Париж, 1971). Жан-Клод в последующие годы часто бывал в Москве, участвовал в различных конференциях по авангарду и имел деловые контакты с Д.В. Встречался Д.В. и с Андреем Наковым, пока тот не подорвал свою репутацию участием в выставке поддельных пастелей Михаила Ларионова. В 1976 году Д.В. был в командировке в ФРГ и во Франкфурте-на-Майне познакомился с директором музея Института Штеделя Клаусом Гальвицем, одним из крупнейших искусствоведов страны. Между ними возникла особая симпатия, и Гальвиц, приезжая в Москву, всегда нас посещал. Исключительно благородный и обаятельный человек. Однажды он даже принял, придя к нам, участие в тусовке, устроенной нашим младшим сыном, и очень красиво танцевал с его женой Дашей. В 1978 году Д.В. был приглашен на конференцию в связи с юбилеем Общества археологии и искусствознания Венгерской академии наук. Он познакомился с Юлией Сабо, занимавшейся связями русского и венгерского искусства, и у них возникли очень теплые отношения. Бывая в Москве, она обязательно приходила к нам. В 1979 году Д.В. был командирован в Париж в связи с подготовкой выставки «Москва — Париж». Он специально встречался с тогдашним директором музея искусства в Бобуре — Центре Помпиду Понтюсом Хюльтеном, шведским искусствоведом, серьезным знатоком мирового авангарда. Хюльтен в те годы приезжал в Москву и несколько раз бывал у нас со своим помощником, хорошо говорившим по-русски. У них с Д.В. возникло особое расположение друг к другу. Я, бывало, шутила, что их так крепко связала любовь к русскому авангарду и к русской водке. Все-таки швед — северный человек, как и Д.В., большой любитель Русского Севера. Порой он засиживался у нас за разговорами до рассвета — к всеобщему удовольствию всей нашей семьи. К сожалению, когда он перебрался в Америку, наша связь оборвалась.
- Каков был круг зарубежных аспирантов и учеников Дмитрия Владимировича Сарабьянова?
В архиве Д.В. сохранилось 15 отчетов о работе со стажерами и аспирантами из разных стран с конца 1970-х годов, в основном в 1980-е — 1990-е. Но их было больше (о некоторых из тех, кого я знала, отчеты не сохранились). Сроки обучения были самые разные: иногда короткие, на несколько недель, но большинство приезжало на несколько месяцев или на год, в качестве аспирантов, защищавших здесь диссертации. Стажеры были почти из всех европейских стран: Великобритании, Италии, Франции, Швеции, Югославии, хотя большинство — из США. Темы занятий касались и русского искусства ХIХ века, но в основном первых десятилетий ХХ века — авангарда. Д.В. ответственно относился к занятиям со всеми стажерами. Например, он был очень терпелив к Елизавете Валкенир, эмигрировавшей из Польши в США и вынужденной стать специалистом по передвижникам и Репину, отнимавшей у Д.В. очень много времени. Но были и любимчики: Джон Боулт, Шарлотта Дуглас, Кристина Лоддер, Джейн Шарп, с которыми сложились прочные научные и дружеские отношения. Особое внимание Д.В. уделял японской аспирантке Киёми Нитте, которая после защиты диссертации, написанной под его руководством, много лет была едва ли не единственным в Японии специалистом по русскому искусству. Она занималась устройством множества выставок русского искусства в Токио и других японских городах и, конечно, постоянно консультировалась с Д.В. по вопросам, связанным с организацией этих выставок. С годами она стала у нас своим человеком.
Елена Борисовна Мурина. 1/XI 2020 г.