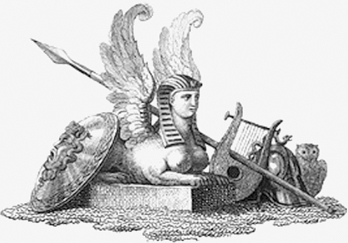Степан Ванеян
Середина под спудом.
Архитектурная теория Николая Брунова:
немецкие корни, советские побеги и античные плоды[1]
В этом и состоит задача нашей эпохи, чтобы искусство строительства поднять — с помощью нового рода синтеза функциональных, конструктивных и художественных компонентов архитектурной композиции — на новую ступень совершенства.
Н.А.Брунов
Бытует мнение, будто каждый строительный стиль имеет свой «ордер», свой архитектонический гештальтный закон.
Н.А.Брунов
I. «Принцип реализма»: античное классическое как современное архаическое
Я попробую поделиться своими впечатлениями и соображениями по поводу одной, как кажется, почти забытой, но очень и очень важной странице истории науки об искусстве — в «отдельно взятой стране». Хотя, на самом деле, этих стран целых две, и в какой-то момент они даже были чем-то схожи…
Дело в том, что как-то, довольно случайно, в одном берлинском букинистическом магазине мне попалась книжка, изданная в ГДР дрезденским Kunstverlag в знаменитой и по сю пору процветающей серии Fundus в совсем далеком 1972 году. Это «Этапы развития архитектуры» Николая Ивановича Брунова[2] — фигуры примечательной, замечательной и, как это обычно бывает, многозначительной и поучительной. Мне показалось, что в этом тексте есть очевидно невольные, но, несомненно, полезные для наших сегодняшних и насущных целей симптомы (осознанная симптоматика — уже диагностирование и дело врачей, а не пациентов, к которым мы вынуждены причислять себя и себе подобных). Они, эти симптомы, суть обнаружение довольно специфических и скрытых процессов, происходивших и, увы, вполне еще происходящих внутри некой, а именно советской научной традиции, о которой и пойдет речь в моих чуть сумбурных заметках.
Я попытаюсь в одном не очень известном тексте одного очень известного и заслуженного деятеля науки указать на некоторые семантические, так сказать, участки, или зоны, где текст содержит важные маркеры касательно не только возможных, но и просто обязательных оценочных, т.е. критических суждений.
И я посчитал возможным поделиться некоторыми своими наблюдениями на этот счет в контексте опыта изучения античного материала именно потому, что античность способна быть тем самым камнем преткновения, что одновременно есть и камень краеугольный, для очень многих видов построения, совсем не только искусствоведческого, где архитектоническая метафорика представляется совершенно универсальной, не ограниченной, безусловно, например, сугубо библейским контекстом, который, однако, стоит заметить, есть и контекст европейский. Мне кажется, что для моих скромных намерений даже и не требуется особое согласование культурно-цивилизационных контекстов и традиций, ведь любая древность способна выступать фундаментом некоторых последующих исторических феноменов, будь то новый религиозный опыт или новая — научная — парадигма.
В любом случае тому и другому угрожает нечто общее: девальвация и инфляция смысла при переходе (или возврате) к мифологии и идеологии. И с верой, и с наукой — как вещами, в общем-то, родственными — такое при некоторых неблагоприятных обстоятельствах, прежде всего историко-политического свойства, может происходить. И обращение к некому исходному — предначинательному и предваряющему, а потому по-своему тоже античному — опыту всегда дает некоторый оздоровляющий или хотя бы эвристический эффект, когда возникает возможность сквозь мутное стекло одного из бесчисленных «классицизмов» узреть чистый лик классики, а еще лучше — архаики…
Зачастую достаточно очень небольших признаков-симптомов, совсем, как кажется, ничтожных поводов, чтобы почувствовать в некотором суждении, касающемся именно античности, потребность в принципиальных наблюдениях. Вот они, эти, казалось бы, совсем общие и почти дежурные замечания касательно античности. В эти несколько предложений интересующий нас автор смог вместить, конечно, предостаточно ритуально-официальной фразеологии, но он же одновременно умудрился высказаться о своих, как мне представляется, скрытых если не желаниях, то настроениях точно. Хотя, очень хочется верить, это и просто исследовательские навыки, ментально-интеллектуальные привычки, от которых никуда не деться и не избавиться.
«Понятие демократии, республики, идея равенства всех граждан, возникновение наук — все это предпосылки для создания нового принципа как основоположения искусства и архитектуры, принципа реализма. Этот принцип вел к возникновению нового человеческого образа, что видел в человеке венец природы…» (42).
Тут, в общем-то, не к чему придраться: все камуфляжные клише налицо и все необходимые штампы на месте. Но можно, например, поставить впереди упоминаемых «демократии» и «республики» нечто на «г» (это может быть и Германия — как родина изданного текста, и, кстати, Греция — как родина отчасти той же Германии и почти всей Европы), и получится уже вполне уместная расшифровка знакомой аббревиатуры, за которой — вполне понятная культурно-историческая энграмма, если не энигма, позволяющая в нужном свете прочесть и оговорку — «венец природы» (вместо «венец творения»), отчего, конечно же, по-иному заиграет и «принцип реализма». В нем несомненно и отчетливо зазвучит «принцип надежды» и промелькнет еще один недолгий герой недолгой истории гуманитарного знания ГДР (Эрнст Блох).
Реализм же, как я постараюсь показать, в контексте Брунова выглядит совсем не так невинно и означает вещи весьма достойные, связанные с ранней порой формирования современного искусствознания. Оно, напомним, обязано своим до сих пор достаточно достойным обликом, помимо прочего, как раз немецкой феноменологии первых десятилетий прошлого века с ее возвратом «назад к вещам» (rei). Так что в данном, очень конкретном случае упомянутый «принцип реализма», помимо прямых жестов в сторону господствующей идеологии, мог означать и скрытую отсылку (украдкой брошенный взор) к раннему, не совсем советскому и потому именно строго научному периоду творческой биографии разбираемого нами автора (так и представляешь себе, как Брунов листает «Философию как строгую науку» Эдмунда Гуссерля или штудирует «Искусствознание как строгую науку» Ханса Зедльмайра).
К ней-то, к упомянутой биографии, я вначале и обращусь, памятуя лишь об одном — не забыть вернуться к этой «архаике», характерным образом — благодаря как раз своей архаической природе — сохраняющей аисторическую актуальность в глубинах любого историзма, даже самого антиисторического, которому вроде бы и не место на полях истории, но который, вопреки всему, все еще наличествует — хотя бы ради того, чтобы напоминать о чем-то ином — большем, и лучшем, и по-настоящему историчном...
II. Жизнь, труды и псевдонимы[3]
Годы жизни Николая Брунова хорошо известны: это 1898–1971. Он родился и умер в один день — 25 ноября. Заслуги и регалии его внушительны. Перед нами биография безупречно благополучного и безусловно благонамеренного советского ученого. Он профессор кафедры истории архитектуры и градостроительства Московского архитектурного института (с 1932 по 1971), действительный член Академии архитектуры и строительства СССР (с 1952 по 1962), доктор искусствоведения (1943). За работу в высшей школе и в связи с 55-летием (!) был награжден орденом Ленина.
В свое время Брунов экстерном окончил Московский университет, защитив в 1920 году диплом по теме «Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры» (под руководством А.И.Некрасова). Поступил в Музей изящных искусств (ныне ГМИИ им. А.С.Пушкина) на должность помощника хранителя отдела. После сдачи магистерских экзаменов зачислен в научные сотрудники первого разряда Института археологии и искусствознания РАНИОН (1921–1931).
Много путешествовал по СССР и за рубежом. В 1924 году исследовал памятники Константинополя, Никеи, Трапезунда.
С 1926 года член-корреспондент, позднее действительный член ГАХН. Читал лекции в МГУ (приват-доцент с 1926), ВХУТЕИН (доцент с 1926), Высшем инженерно-строительном училище (с января 1932 по июль 1933), Московском архитектурном институте (с 1926). Научные публикации — с 1924 года[4].
Где-то в Богородском районе ближнего Подмосковья до сих пор хранится краеведческая память о некогда успешном купеческом роде Бруновых, моментально разорившихся после 1917 года. Это сведения касательно отцовской линии, а вероятные немецкие корни со стороны матери — область почти достоверных, но все же предположений.
Очень важный момент в его биографии — научно-исследовательское турне 1929 года по Италии, Франции, Германии и Австрии. В Германию и в Австрию он приехал, что называется, не с пустыми руками и с именем уже сложившимся. Для немецкой науки он был почти своим человеком: очень скоро, в 1932 году, появится его совместная с М.А.Алпатовым немецкоязычная книга, посвященная истории древнерусского искусства[5]. Брунов вместе с соавтором — заметный персонаж в истории так называемого нового венского искусствознания; он публиковался в его печатном органе Kunstwissenschaftlicher Forschungen — месте появления программных текстов и манифестов феноменологической и одновременно гештальт-структурной аналитики. Именно к ней, безусловно, принадлежал молодой Брунов, в первом же томе этого печатного органа публикующий очень важный текст, правда под псевдонимом Георгиас Андреадес[6], который, кстати говоря, дополняет еще один его как бы псевдопсевдоним — Nicolaus Brunov. Тот и другой псевдонимы, греческий и латинский, как два корня, уходящие сквозь Средние века в благодатную почву все той же Античности.
Хотя на поверхности светской действительности можно было наблюдать совсем иное раздвоение. Есть как бы два Брунова: один — бывший европейский, другой — совсем уже советский. Сами тексты свидетельствуют об этом невеселом, но типичном обстоятельстве…
III. Начало: структурный анализ художественной фактичности
Текст же, мною разбираемый, — издание уже посмертное (в сведениях об авторе специально указывается, что профессор Брунов только что скончался)[7]. Так что это, безусловно, памятник отечественной литературы об искусстве в ее далеко не худших образцах. Я себе позволю обратить внимание на тот факт, что перевод на немецкий язык в исполнении Лены Шёхе был сделан с русской рукописи, что означает одно: на русском книга не издавалась[8].
Конечно, отдельная тема, которую мы почти не затрагиваем, — это доля терминологического участия немецкой переводчицы, известной переводами текстов Эль Лисицкого, а также «Малой истории искусства». В любом случае для нас не очевиден сюжет, предполагающий, благодаря немецкому переводу, превращение советского и заслуженного профессора-орденоносца, носителя типичного научно-советского новояза, приправленного знаточеской фразеологией, в тайного гештальт-структуралиста, хотя такой сюжет имеет некоторую долю если не реальности, то просто занимательности. Притом что идеологически-терминологические фильтры у немецкой переводчицы, несомненно, были не такие грубые, как у советских авторов и особенно — редакторов.
Все содержание книги заключено между первой и последней (21-й) главами: «Структура и развитие постройки как произведения искусства» и «Существуют ли законы развития архитектуры?». Пройдемся по основным положениям первой и последней глав.
«Архитектура образует внешнюю оболочку человеческой жизни и общества. Здания организуют эту жизнь и зеркально отражают ее своим внешним гештальтом (durch ihre äussere Gestalt). Существуют взаимообменные отношения как между архитектурными формами и человеком как мерой всех вещей, так и их обоих — с окружением здания, равно как и с природой вообще. Эти отношения и делают произведение строительного искусства связующим членом между человеком и природным окружением… История архитектуры распадается на две области знания, которые друг друга дополняют. Первая область — „фактологическая“ архитектурная история. […] Для нее большое значение имеют различные иные дисциплины… Притом что сама постройка является самым важным источником информации. Вторая область архитектурной истории, по сути, начинается там, где прекращается первая. Ее задача — интерпретация выработанных фактов, а по существу дела — интерпретация произведения искусства как такового» (4).
Обратим внимание, что прямо так и говорится: где прекращается, т.е. сдает свои права и привилегии, фактология, там начинаются собственно искусство и, самое главное, его интерпретация. Получается, задача этой второй архитектурной истории — интерпретация «выработанных фактов», так что интерпретация фактов — это средство достижения произведения искусства как такового.
Ведь фактами владеют и фактами снабжают искусствознание другие дисциплины, иные отрасли (буквально — «ветви») гуманитарного — и не только — знания. И у них свой объект интересов, изысканий и интерпретаций. Искусствознание (история искусства) оказывается как бы на подхвате: факты для нее — сырье, хотя факты-то выработаны! Они творение, плод творческих усилий иных дисциплин, вполне, с одной стороны, почтенных (те же филология, и социология, и история), а с другой — откровенно вспомогательных ввиду интересов уже науки об искусстве.
Итак, фактология не просто собирает факты, которые где-то брошены-разбросаны, зачем-то спрятаны-сокрыты, кем-то забыты или просто забиты в дальние щели памяти. Фактология — применительно и к истории, в том числе архитектуры, — не есть поэтому чистая археология. Не надо представлять себе, что факты подобны артефактам и что, как археология раскапывает артефакты, так будто бы и история раскапывает факты. Факты — и не грибы, и не ягоды, и тем более не орехи! Факты совсем не выращиваются, а воистину вырабатываются; факты — это продукция, это то, что производят на свет, например, историки. Факты — это своего рода метаартефакты, а по существу — «текстофакты», и с этой прикровенной дискурсивностью Брунов де-факто своему читателю ненавязчиво предлагает считаться…
Поэтому, может, речь идет и о том, что кроме фактов вырабатывается и само произведение искусства, оно точно так же производится историком искусства, как производится фактическая событийность просто историками (и, кстати говоря, подобно тому, как произведения производятся художниками!)
И вот дальше начинается самое замечательное и самое специфическое. Как всякая историческая отрасль знания, архитектурная история имеет два аспекта («аспект» — весьма терминологически значимое и феноменологически релевантное понятие). Дабы обосновать подлинную историю какого-либо объекта, в первую очередь следует знать, что он, объект, есть в своих основополагающих чертах, что в нем инвариантно сущностного и что суть «детали».
Отсюда возникает вопрос об исследовании существа (das Wesen) постройки, ведь, пока кто-то занимается фактами, он существа, в общем-то, и не касается, и даже о нем не думает (5). Но обрисовывать историю какого-либо предмета, если мы не ведаем его подлинного характера, невозможно. Два аспекта: первое — существо, второе — характер. Таковы предварительные предуведомления, готовящие появление двух самых ключевых слов. Эти слова — «структурный анализ». Постройка и историческое наблюдение за ее структурами представляют собой две частные области одной и той же науки, и они неразрывно друг с другом связаны. Необходимо осознавать и то, напоминает автор книги, что структурный анализ недоступен без учета исторического развития.
Все это, несомненно, отзвуки и отблески или даже просто полуистертые следы гештальт-феноменологических установок венского искусствознания 20-х — 30-х годов ХХ века, равно как и второй обсуждаемый аспект — подлинный «характер» произведения, которое ведет себя так или иначе и имеет свои поведенческие черты. И именно встреча интерпретатора с этим самым «характером», который вдобавок и «наглядный» (Зедльмайр), заставляет его обращаться к структурному анализу.
Речь идет уже о готовом феномене, т.е. о постройке, и она заведомо располагает сложной структурой, основание которой — целеполагание здания (это уже отчасти неокантианское слово и отзвук формализма фидлеровско-гильдебрандовского извода). Здесь же упоминаются строительные конструкции и строительные материалы — они суть средства, помогающие реализовать «архитектоническую программу». Но кто усматривает в этих средствах основу архитектурных форм, тот сильно заблуждается (6), замечает Брунов (как не вспомнить здесь уже Алоиза Ригля, его борьбу с Хансом Земпером, а равно и все остальные венские реалии[9]!).
Дело в том, что надстройка по отношению, во-первых, к целеполаганию, во-вторых, к функции здания, в-третьих, к его конструктивным особенностям образует его (здания) «художественное высказывание». Как не опознать здесь витрувианскую триаду? Но интересно, что она отличается «особым значением» (6) для произведения выстроенного как произведения художественного. Потому что эта надстройка «воздействует не только обратно на конструкцию здания, но зачастую и на его функцию» (Ibid.). И замечание самое здесь принципиальное звучит так:
«Архитектурная композиция — это взаимообменное отношение трех названных факторов, так что художественное высказывание, с помощью которого функционально верно решенное и прочно собранное здание превращается в художественное произведение, необходимо рассматривать как основание архитектурной композиции» (Ibid.).
Получается, что архитектурная композиция возникает при взаимодействии между собой этих трех факторов — аспектов постройки, и это взаимодействие обнаруживает себя и как их разговор, так сказать, между собой, но вслух и громко, что превращает его в высказывание — в диалог-триалог, услышанный тем же наблюдателем, но тем самым оказавшимся и слушателем, а значит, и интерпретатором подобной, если называть вещи своими именами, архитектонической авториторики. Проще говоря, архитектурная композиция эквивалентна текстуальной (литературной) композиции и может быть, соответственно, материалом интерпретации (имеющей тоже вербально-текстуальную форму).
Иначе говоря, если здание с нами разговаривает (architecture parlante!), то мы тоже можем говорить на его языке или предлагать ему язык свой. Вся эта методологическая подоплека — прогрессивная весьма для 1920-х и 1930-х годов — в тексте, остававшемся в виде рукописи до начала 1970-х годов, несомненно, присутствует и не может не вызывать чувство чуть печального уважения по причине своей, мягко говоря, запоздалости (на сцене мировой теории искусства). Но мы предлагаем на эти прописные — и потому классические — истины современного искусствознания и архитектуроведения, прошедшего горнило критической дискурс-аналитики, посмотреть и «архаически», в хорошем смысле слова: эти истины — исходны и предварительны, а потому неотменяемы!
IV. Конец: циклизм, капитализм и жизнь времени
И вот сразу — последняя глава. Мы внутри отчетливой рамочной конструкции, образованной двумя безусловно концептуальными частями текста, между которыми — вся пресловутая фактичность, статус которой, как мы выяснили только что, крайне проблемный, потому как фиктивен.
«Существуют ли законы развития архитектуры?» — это вопросительное предложение в заглавии последней главы книги есть отголосок весьма острой дискуссии с современными Брунову последователями Генриха Вёльфлина, прежде всего в лице Пауля Франкля[10] и Эрнста Кон-Винера[11]. «Циклическая теория» архитектурного развития воспроизводится Бруновым достаточно подробно (341–344), чтобы не заподозрить его если не в симпатии, то точно в серьезном отношении к стилистическому формализму. Претензия, собственно говоря, лишь одна, и надо сказать со всей ответственностью, что она совершенно формальна. Это игнорирование «прогрессивных тенденций мировой архитектуры» (345). Способ же признания этого «прогресса» выглядит еще более условным: Брунов предлагает использовать «качественное суждение» применительно к архитектуре, что подразумевает не просто оценку отдельного здания, а сосредоточение на тех основаниях, что «способствуют возникновению и развитию одного определенного явления, а именно соединению архитектуры с жизнью [того] времени, что ее породило» (Ibid.).
Брунов сам очень скоро связывает этот подход с «культурно-историческими предпосылками» (Ibid.), но чуть выше как будто хочет сообщить внимательному читателю нечто большее: он противопоставляет вёльфлиновскому формализму вовсе не культурно-исторический позитивизм предыдущего столетия (марксизм — его разновидность). Как будто невзначай упоминаются «некоторые представители венских исследований искусства, особенно такие ученые, как Ригль, Дворжак и их ученики (!), многого добившиеся» (Ibid.).
И указание на скрытых учеников (а это упомянутые в начале моих заметок сподвижники Брунова 1920-х — 1930-х годов) отчетливо противоречит всему дальнейшему — совершенно формальному и идеологически маркированному изложению идеи того, что цикл архитектурного развития не включает «прогрессивную» архитектуру социализма. Хотя и здесь можно при желании усмотреть почти незримые следы того же Зедльмайра с его не просто «качественной», но подчеркнуто «морально-нравственной» критикой тенденций Новейшего времени. Брунов прямо говорит, что в упадке архитектуры виноваты «рационалисты и эгоисты, люди власти» (346) — достаточно емкая категория врагов гуманизма, чтобы не включить туда, например, и советских «уберменшей», знакомых автору книги, увы, не понаслышке.
Тем не менее в самом конце книги ее автор как бы спохватывается, и завершающие формулировки звучат, так сказать, намеренно благонамеренно и почти уморительно примирительно.
«Архитекторы нашего времени и времени будущего обязаны иметь в виду, что архитектурное развитие человечества знало два главных направления — архитектура Востока и архитектура Западной Европы, а также синтез всеобщих принципов обоих направлений в архитектуре греческой античности Восточной Европы. Большое значение имеет и тот факт, что во все времена подлинным и самым глубоким источником архитектуры как искусства было народное зодчество, что служило человеку своим естественно-органическим отношением к природе и, будучи далеким от всякой односторонности, находило себе выражение в единстве рациональной и интуитивной стороны строительного искусства» (348–349).
И кстати говоря, в этом случае Восточная Европа как наследница столь же восточноевропейской, что следует из книги, античности — это не только Византия и Древняя Русь, но, быть может, и Австрия (в нарядах габсбургского Третьего Рима в лице Вены), и Германия (не обязательно, между прочим, облаченная в гештальт тысячелетнего рейха — одновременно и очередного (сколько их уже было!), и опять-таки Третьего).
Запад же в таком случае — это Франция и, наверное, Англия. Вся эта идеологическая география была давно уже стандартом немецкоязычной популярно-популистской риторики прошлого и даже позапрошлого века, вроде как бы культурно-исторически замученного, согласно финалу книги, беспощадным капитализмом.
И равным образом разговор о народном зодчестве, об отношении к природе — это не очень густой коктейль из Гегеля и Земпера. Подобное писалось уже за 100 лет до Брунова и, наверное, без необходимости перевода на немецкий язык, так как для Франца Куглера, Генриха Густава Гото или Карла Шнаазе это наречие было вполне себе родным. Как и для немецких романтиков, перечитавших (не без помощи Иоганна Готфрида Гердера и Иоганна Вольфганга Гете) на национальный лад Иоганна Иоахима Винкельмана, знавшего, как известно, лишь одну — эллинскую — народность, и открывших «органику» древности, связав ее с той же европейской романикой (ведь древнерусская архитектура, столь милая сердцу Брунова в его же изложении, — ее же чуть более восточный, отчасти не без византинизма (Второй Рим!), вариант).
Так-то и финализируется, и фатализируется все это повествование, в духе вывернутой наизнанку «Утраты середины» (с узнаваемой и знаменитой концовкой с упоминанием эсхатологических мук пред лицом «пустующего трона»):
«…господство капитализма в Европе привело к упадку архитектуры как искусства. Мы живем в такое время, когда постепенно преодолевается этот упадок и когда архитектура вновь становится искусством. Этот процесс еще долго не будет завершен, и, чтоб достичь подобной цели, строительному искусству еще предстоит пройти мучительный путь» (349).
Строго говоря, внутри текста нет всех этих ритуально-заклинательных советско-марксистских мантр насчет капитализма. Мы можем даже сказать, что во всей книге не сыскать ничего ни идейно советского, ни древнерусского, ни отечественного как такового. В этом-то и весь ее эффект. При чтении книги на немецком языке, если мы не знаем, кто автор, и даже если бы фамилия была с двумя «н» (Brunnow), мы вполне могли бы представить себе, что это писал вполне немецкоязычный человек с вполне венской или берлинско-мюнхенской ориентацией, не без марксистских, правда, наклонностей, проявляющихся больше в речевых оборотах, в духе вполне себе невинного Арнольда Хаузера[12].
Тем не менее нас поджидают — вместе с автором разбираемой книги — некоторые парадоксы именно гегельянского историзма, построенного, как известно, на допущении гибельности практически любых исторических процессов, конечность которых — это их смерть, и никак иначе. В этом случае возникает странный вопрос: а чем же является архитектура в тот момент, когда она еще не стала вновь искусством? Ведь завершение процесса становления архитектуры как искусства — важный тезис Брунова, касающийся XIX столетия. С этого момента она в упадке, новое ожидается со дня на день, когда наконец-то «разовьется» пока еще «свитая» социалистическая архитектура. Но эта пауза не просто предполагает остановку, своего рода исторический перекур — всякий упадок доходит до логического и диалектического конца, который уже с 30-х годов XIX века именуется «смертью искусства». Призрак Георга Гегеля непрестанно бродит если не по просторам, то точно по проулкам и проходам европейской (и не только) истории искусства, а уверенность в еще припасенных муках звучит как-то безнадежно зловеще не только в контексте истории архитектуры, но и истории советского искусствознания.
Хотя главное — в другом. Отказ от циклизма в данном контексте чреват новыми проблемами: постулат сквозного движения — сквозь пустыню «разлагающегося» капитализма навстречу лишь предвосхищаемому и как бы только завещанному и потому заветному «расцвету» — точно фиксирует момент «болезни к смерти» (в терминах Сёрена Кьеркегора, Владимира Вейдле и Ханса Зедльмайра). И эта фиксация — текстуальная, абсолютно соответствующая гегелевской схеме и предполагающая — сразу после смерти — выход на новый логический (смысловой) уровень: мы не обязаны ждать расцвета социалистической архитектуры, пребывая и коротая время в промежуточной зоне вневременного идеологического мифологизма. Мы можем допустить смерть прежней архитектуры, но вслед за этим печальным, хотя и обязательным, обстоятельством наступает время уже не искусства, а его истории, не архитектуры, а архитектуроведения.
Потому и пишется книга Брунова, потому она и издается, но в состоянии того самого Aufhebung, что конкретизируется как метафорическая метаморфоза — как транскрибирование текста и транскрипция понятий. И в другом и чужом языковом обличье или даже гештальте этот текст обнажает свои первичные уровни — отчетливо явленного прогресса именно эпистемологического рода.
…Показательно, что читатель не найдет иллюстраций в немецком издании дальше Малого Трианона. Собственно говоря, этим и заканчивается иллюстративный ряд книжки, и о XIX веке с его господством капитализма мы тоже ничего не найдем наглядного. Получается, с этого момента все виртуально и просто — на уровне словесных формул. Еще одна подсказка касательно того, где и как заканчивается уже не архитектура как искусство, а искусствознание как наука…
Можно предположить, что все это писалось, так сказать, вдогонку, как бы дописывалось, дабы добыть необходимую идейную легитимацию. Вульгарность и кондовость этих дежурных формулировок — почти обязательные правила игры: посмотрите, я в доску свой, мне, как и полагается, изменяет вкус, чувство меры, и я уже не помню методологические заветы друзей юности (да я их попросту не знаю и знать не хочу!). Для нынешнего же читателя это невольный маркер неподлинности и неискренности — как вырезанная ножом на стволе дерева неприличная надпись (причем не одна и то ли от скуки, то ли от тоски).
Текст, только что возвышенный на уровень метаискусства (по причине смерти искусства как такового), тут же даже не «снимается», а по-простому «опускается», сохраняя, еще раз это подчеркнем, свою связь с чем-то только искомым, но парадоксальным образом застрявшим (или припрятанным) в прошлом (какая-то крипта-кунсткамера мертвых методов).
V. Середина: диафания Небесного Иерусалима
Как известно, человечество так и не дождалось чисто социалистической архитектуры или просто прорвалось сквозь все «соц-измы». И потому-то сегодня все еще можно читать текст Брунова, не боясь сходства с прошлым (венская школа истории искусства) и не страшась родства с будущим (обязательная и неумолимая синхронизация искусствознания русскоязычного и общечеловеческого).
И залог реальности этой и ретро-, и перспективы — мои самые важные наблюдения. Дело в том, что на уровне безусловной индексальности и одновременно чисто эпистемологического символизма ровно в середине книжки (180–181), где речь заходит про готический собор, с удивлением обнаруживается нечто, как мне кажется, сознательно запрятанное, заветное и сердцевинное. Про готическую архитектуру, совершенно в духе зедльмайровского «Возникновения собора» 1951 года, написано именно то, что про него полагается писать, если у нас (вслед за авторами подобной терминологии — Тейяром де Шарденом, Хансом Янтценом, Хансом Зедльмайром и другими) имеется желание обозначить, например, свою приверженность католическому «литургическому возрождению» с его характерным мистицизмом вкупе с модернистской теологией. Мы встречаем и Небесный Иерусалим, спустившийся на землю (180), и, самое замечательное и значимое, целый абзац, посвященный диафанической структуре (вещь, не часто встречающаяся даже в родной для этого понятия историографии[13]).
«Проницаемый взглядом, „диафанический“ характер, присущий готическому творению строительного искусства, соответствовал тогдашним идеалам отрешения от мира, обретшим свое отражение в поэтическом искусстве прежде, чем их настиг гештальт уже архитектонический» (Ibid.).
Отмечая пронизанность собора мистикой и «переменчивой игрой эмоциональных и рациональных элементов» (Ibid.), автор сам, похоже, незаметно для себя оказывается пропитанным уже некоей мистикой историографической, ненавязчиво воспроизводя лучшие в своем интеллектуальном «волшебстве» постулаты Янтцена и Зедльмайра.
«Необыкновенный эффект витражей состоит в том, что зритель во внутреннем пространстве собора окружен материализованным и одновременно одухотворенным цветовым медиумом. Он как будто купается в многоцветных, заполняющих все пространство световых пятнах…» (181–182).
Надо понимать, сколько здесь многозначительных отсылок и к янтценовской медиальности цвета[14], и к зедльмайрову доструктурному пятну-macchia[15], и ко всему гештальт-структурализму, позволяющему реального зрителя погружать в «ванну» (или купель?) чисто перцептивных — дофигуративных! — и сугубо двухмерных отношений.
И потому на фоне вышеописанной — схороненной и утаенной — середины упомянутый в финале «мучительный путь» проходит не только искусство, не только ныне советский, а когда-то просто европейский историк искусства, но и знания об искусстве как таковые. Но все усилия советско-большевистской «эстетики» тщетны: на самом западном рубеже социалистической зоны-заповедника, в «братской» ГДР, хранится рефлекторная — на уровне терминов, концептов, переводческого габитуса — память о совсем ином искусствознании…
Несомненно, все в начале упомянутые отрасли этого знания, эти Zweige, эти ветки-дисциплины, могут так или иначе тоже подвергаться обрезке (если продолжать эту садоводческую терминологию), дабы соответствовать, например, новым представлениям о «строгой науке об искусстве» (К.-М.Свобода, Х.Зедльмайр, О.Пэхт, в перспективе — Э.Гомбрих) или старым, как мир, попыткам выжить в идеологически опасной среде (Н.И.Брунов, М.В.Алпатов, В.Н.Лазарев).
Но кто в данном случае отвечает (и отвечает ли) за столь характерное, мягко говоря, несоответствие между тем, что знаешь и думаешь, и тем, что говоришь и пишешь? Какие «селекционеры» постарались, чтобы немецкое и вполне социалистическое издание советского автора знало и «диафанию», и «гештальт», а отечественный академически-искусствоведческий «дискурс» даже сегодня чурается этой терминологии совершенно искренне — как чего-то чуждого даже и не идеологически, и тем более не методологически, а чисто психологически и по-житейски — как совсем не обязательного сотрясения воздуха, который и так довольно сперт?
Что можно привить на месте то ли отпавших, то ли отсохших ветвей? И в ветвях ли дело? Быть может, засохла уже вся смоковница (Мф 21:19)? Не пора ли сажать новые саженцы или сеять новое семя (ср. Мф 13:3 и далее)? Но в какую почву? И правда ли, чтоб без разбора? И откуда доставлять сей посадочный материал, кто будет за посеянным-посаженным ухаживать? Где они, эти вечные сеятели и новые «мудрые строители» (1 Кор 3:10)?
Подобные вопросы — классика любой эпистемологической экзегезы, но именно в своей почти архаической актуальности они не кажутся праздными вовсе...
В отличие, наверное, от «нового Средневековья», новая античность сулит и новоеВозрождение, а быть может, и даже новое рождение!
[1] Данный текст возник из материалов круглого стола, посвященного памяти Г.И.Соколова (1924–2000) — выдающегося знатока античности и на редкость незаурядного педагога.
[2] Nikolai Brunow. Entwicklungsetappen der Architektur / Übersetzung Lena Schöche. Dresden: VEB Verlag der Kunst, 1972. Все цитаты со ссылками внутри текста — по этому изданию.
[3] Биографию Брунова я излагаю по заметке А.Л.Баталова в ПЭ. Полезное подспорье в этом деле — чуть беллетризованный биографический очерк Андрея Пучкова (Пучков А. Николай Иванович Брунов, архитектурологический компаративист. Очерк из истории архитектуроведения // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини / ІПСМ НАМ України. К.: Фенікс, 2012. Вип. 8. С. 390–403). В целом же библиография текстов о Брунове выглядит следующим образом: Андрианов Е. Бруновские ковры // Богородские вести. Ногинск, 1995. № 21; Герасимов Ю.Н. Выдающийся историк архитектуры: к 100-летию со дня рождения Н.И.Брунова (1898–1971) // Архитектурная наука в МАРХИ. М., 1999; Душкина Н.О. Памяти Николая Ивановича Брунова (к 100-летию со дня рождения) // Ежегодник МАРХИ’98/99. М., 1999; Комеч А.И. Памяти Николая Ивановича Брунова // Византийский временник. 1973. Т. 34; Кызласова И.Л. История отечественной науки об искусстве Византии и Древней Руси: 1920–1930 годы (по материалам архивов). М., 2000; Любавин А.Н. «Ученый, какого еще не было у нас» // Православная Москва. 2000. № 5; Любавин А.Н. Столетие Н.И.Брунова // Московский журнал. 1999. № 4; Саваренская Т.Ф., Швидковский Д.О. Николай Иванович Брунов: к 100-летию со дня рождения // Архитектурный вестник. М., 1998. № 5 (44); Седунова Т.В. Н.И.Брунов как предтеча «иконологии архитектуры» // Известия Рос. гос. пед. ун-та им. А.И.Герцена. М., 2008. Вып. 58. Отдельный и не бесспорный источник — это воспоминания Алпатова: Алпатов М.В. Воспоминания: Творческая судьба. Семейная хроника. Годы учения. Города и страны. Люди искусства. М., 1994.
[4] Вот основные сочинения Брунова, где без труда заметим постепенное исчезновение иноязычных публикаций — судьба почти всего советского искусствознания в списке трудов одного его представителя: К вопросу о так называемом «русском барокко» // Барокко в России. М., 1926. С. 43–55; Модель иерусалимского храма, привезенная в 17 в. в Россию // Сообщ. Рос. Палестинского об-ва. Л., 1926. Вып. 29. С. 139–148; Die Panagiakirche auf Insel Chalki in der Umgebung von Konstantinopel // BNGJ. 1926–1928. Bd. 6. S. 509–520; Die fünfschiffige Kreuzkuppelkirche in der byzantinischen Baukunst // BZ. 1927. Bd. 27. S. 63–98; Une église byzantine à Chersonèse // L’art byzantine chez les Slaves. P., 1930. Part. 3. P. 25–34; Очерки по истории архитектуры: в 2 т. М.; Л., 1935–1937 (репринт: М., 2002); Альбом архитектурных стилей. М., 1937; Дворцы Франции XVII и XVIII вв. М., 1938; Киевская София — древнейший памятник русской архитектуры // ВВ. 1950. Т. 3. С. 154–200; Мастера древнерусского зодчества. М., 1953; Архитектура Византии // Всеобщая история архитектуры. М.; Л., 1966. Т. 3. С. 16–160; Храм Василия Блаженного в Москве: Покровский собор. М., 1988.
[5] Geschichte der altrussischen Kunst. Augsburg, 1932 (репринт: London; New York, 1969). За неполные десять лет (1924–1934) им было опубликовано на основных европейских языках в основных искусствоведческих изданиях почти 40 статей, заметок и рецензий. Плюс около 20 на русском. И всего лишь чуть более 20 — за всю последующую жизнь!
[6] Die Sophienkathedrale von Konstantinopel // Kunstwissenschaftliche Forschungen. Bd. I. 1931. S. 33–94.
[7] И следующая, понятно, тоже посмертная публикация, кстати говоря, посвящена античности: Памятники Афинского Акрополя. Парфенон, Эрехтейон. М., 1973. Из других античных текстов Брунова см.: Греция (Архаика, классика, IV век). M., 1935; Эрехтейон. М., 1938; Очерки по истории архитектуры: в 3 т. М.; Л., 1935. Т. 2. Греция. Рим. Византия (репринт: М., 2003).
[8] Отдельная проблема — связь с «Очерками по истории архитектуры» Н.Брунова (1935–1937). Разбираемая нами книга — это, безусловно, другой текст, написанный, скорее всего, после войны: в нем наличествует не только материал европейского Средневековья и Нового времени, но и явный концептуальный фон, полностью отсутствующий в довоенном тексте (ср., например, характеристики той же древнегреческой «демократии»: Очерки…Т. 2 [2002], с. 52–62).
[9] Из последних публикаций на тему венских реалий см.: С.С.Ванеян. Венская школа искусствознания: Orient oder Wien? // Искусствознание. 2019. № 2. С. 10–43.
[10] Paul Frankl. Die Entwicklungsphasen der Neuern Baukunst. Leipzig: B.G.Teubner, 1914. Английское издание: Principles of Architectural History: The Four Phases of Architectural Style, 1420–1900. Cambridge, MA: MIT Press, 1968.
[11] Ernst Cohn-Wiener. Die Entwicklungsgeschichte der Stile in der bildenden Kunst. Bd. 2. Leipzig: Teubner, 1910. Русский перевод: 1916. Интересно, что в 1924 году этот автор посещал СССР, включая Среднюю Азию (как будто по обмену: Брунов вскоре отправится в Германию).
[12] Arnold Hauser. Sozialgeschichte der Kunst und Literatur. 1951.
[13] См. последние концептуальные и историографические наблюдения на данную тему: Ванеян С.С. Янтцен и Зедльмайр, или Волшебство диафанического. К истокам современных концепций литургического пространства // История искусства и отвергнутое знание: от герметической традиции к XXI веку: сб. ст. / Сост. Е.А.Бобринская, А.С.Корндорф. М.: ГИИ, 2018. С. 365–403. Здесь же и вся библиография, касающаяся в том числе перечисленных авторов. Совсем свежие новости на тему диафании см.: “Ich komme zum Schluss”: Jantzen und Sedlmayr oder Das Diaphane unter dem Baldachin // S.Vaneyan. Das Diaphane: Architektur und ihre Bildlichkeit. Bielefeld: transcript Verlag, 2019. (ArchitekturDenken 9). S. 73–85.
[14] Бездонная тема, восходящая к Аристотелю и добирающаяся до наших дней через Аквината и Джойса. См. русский перевод: Ханс Янтцен. О церковном пространстве в готике // Архитектура — язык, история, теория: сб. переводов. М., 2011. Ч. 1. С. 376–392.
[15] См.: Ванеян С.С. Брейгель — Зедльмайр — Имдаль: слепое пятно интерпретации // Память как объект и инструмент искусствознания: сб. ст. / Сост. Е.А.Бобринская, А.С.Корндорф. М.: ГИИ, 2016. С. 86–99. Русский перевод: Ханс Зедльмайр. Питер Брейгель. Низвержение слепых / Пер. С.Ванеяна // Логос. Т. 25. № 4 (106). С. 16–57.